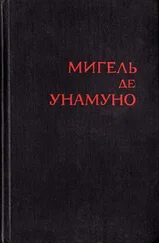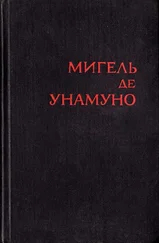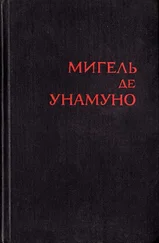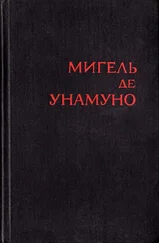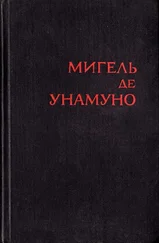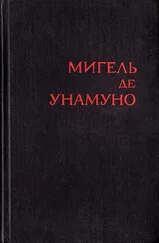– Да, – отвечала я, – феодальный и средневековый город…
– Так вот, – продолжал брат, – в глубинах души нашего дона Мануэля тоже сокрыт и спрятан город, и оттуда тоже порой слышится благовест.
– Верно, – отвечала я, – в душе у дона Мануэля есть такой сокрытый город, да и у тебя в душе он есть, разве не так? И город этот – кладбище, где покоятся души наших предков, души тех, кто жил в Вальверде-де-Лусерне, нашей деревне… феодальной и средневековой.
В конце концов брат стал ходить на все богослужения, чтобы послушать дона Мануэля, и когда разнеслась весть, что он присоединится ко всем прочим прихожанам и причастится в день общего соборного причащения, все деревенские от души порадовались, так как для них весть эта знаменовала возвращение Ласаро в общину.
И настал день, когда должен был он причаститься на глазах у всех и вкупе со всеми. Когда пришел черед брата, я пригляделась к дону Мануэлю и увидела, что он бел, как январский снег на вершине нашей горы, и весь охвачен дрожью, как воды нашего озера под неистовством северного ветра, и когда подошел он к брату с патеной [7] Патена (дискос) – золотое блюдо для облаток.
в руке, рука эта так дрожала, что когда он поднес ее к устам Ласаро, то, пошатнувшись, выронил патену. И брат мой сам поднял облатку и поднес к губам. И все деревенские при виде слез дона Мануэля тоже залились слезами и говорили друг другу: «Как полюбил он его!» И тогда запел петух, потому что время было раннее.
Когда мы с братом вернулись домой и затворили двери, я бросилась к нему на шею и, целуя его, сказала:
– Ах, Ласаро, Ласаро, какую радость ты доставил нам всем-всем, народу всей деревни, и живым, и умершим, а главное – матушке, нашей матери! Ты видел? Бедный дон Мануэль плакал от радости. Какую радость ты всем нам доставил!
– Ради того я и причастился, – отвечал брат.
– Ради чего? Чтобы доставить нам радость? Ну, причастился-то ты все-таки ради самого себя, чтобы возвратиться в лоно Церкви.
И тут брат мой Ласаро, бледный и дрожащий, как дон Мануэль во время причастия, усадил меня в кресло, где сиживала обыкновенно матушка, перевел дыхание, а затем последовала исповедь – и самая откровенная, хоть исповедовался он сестре и дома.
– Послушай, Анхелита, – сказал он. – Настало время сказать тебе правду, всю правду, что я и сделаю, потому что тебе я должен сказать то, о чем уже молчать не могу и не смею, а еще потому, что ты и сама догадалась бы рано или поздно, но не до конца, что хуже всего.
И тут спокойно и не торопясь он вполголоса рассказал мне историю, которая погрузила меня в печаль, глубокую, как воды нашего озера. О том, как дон Мануэль уговаривал его, особенно во время прогулок к развалинам старого цистерцианского аббатства, не смущать умы, подать добрый пример, приобщиться к религиозной жизни общины, притвориться верующим даже не веруя, затаить свои мысли по этому поводу, но совсем не пытался наставить брата на путь, обратить к вере.
– Возможно ли? – вскричала я в смятении.
– Еще как возможно, сестра, еще как возможно! А когда я говорил ему: «И это вы, вы, священник, советуете мне притворяться?» – он бормотал смущенно: «Притворяться? Вовсе не притворяться; это не значит притворяться! Омочи пальцы в святой воде, сказано кем-то, и в конце концов вера придет к тебе». И тут я сказал, глядя ему в глаза: «Но вы столько раз служили мессу – пришла к вам вера?» – а он уставился в землю, и на глазах у него выступили слезы. Таким-то образом я выведал у него его тайну.
– Ласаро! – простонала я.
В этот миг прошел по улице Бласильо-дурачок, выкликая свое: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» И Ласаро вздрогнул, словно послышался ему голос дона Мануэля, а может, голос самого Господа нашего Иисуса Христа.
– И тогда, – продолжал брат, – мне стали понятны его побуждения и тем самым стала понятна его святость; потому что он – святой, сестра, самый настоящий святой. Вознамерившись привлечь меня на свою сторону – а дело его святое, святее не может быть, – он старался не ради собственного торжества, а ради мира, счастья, если тебе угодно – ради иллюзий тех, кто вверен его попечениям; и я понял: пусть даже он обманывает их таким вот образом – если считать это обманом, – но поступает он так не для того, чтобы возвеличиться. Я сдался на его доводы, в этом суть моего обращения. Никогда не забудется мне этот день, когда я сказал ему: «Но, дон Мануэль, истина, истина прежде всего», а он в ответ дрожа прошептал мне на ухо, хоть были мы вдвоем и среди безлюдного поля: «Истина? Но, Ласаро, что, если истина – нечто жуткое, непосильное, смертоносное? Простые люди не смогли бы жить с такой истиной». – «А почему вы приоткрываете мне ее теперь, словно исповедуетесь?» – сказал я. И он в ответ: «Потому что иначе она бы так меня истерзала, что в конце концов я возгласил бы ее на площади, а этому не бывать, не бывать, не бывать. Я здесь затем, чтобы животворить души моих прихожан, чтобы учить их счастью, чтобы помочь им досмотреть до конца сон о бессмертии, но не затем, чтобы их убивать. Нужно одно – чтобы они жили во здравии, а с такой истиной, с моей истиной, они не могли бы жить. Пусть живут. В этом и состоит дело Церкви – побуждать к жизни. Истинная религия? Всякая религия истинна, покуда духовно побуждает к жизни народы, ее исповедующие, покуда утешает их в том, что им пришлось родиться на свет, чтобы умереть; и для каждого народа самая истинная религия – это его собственная, та, которую он сотворил. А моя? Моя состоит в том, что я ищу утешение, утешая других, хотя то утешение, которое я могу им дать, не для меня». Никогда не забыть мне этих его слов.
Читать дальше