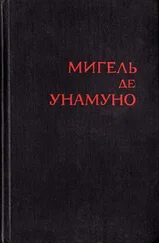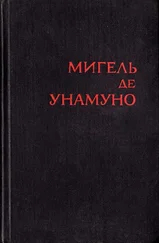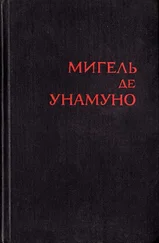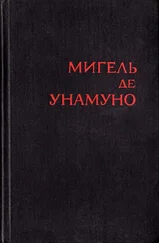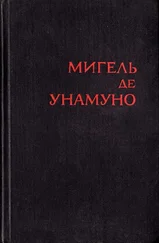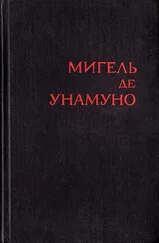– Знаешь что, – сказал он мальчику, – ступай-ка греться, а отцу скажешь: я сам все сделаю.
А когда дон Мануэль возвращался, ведя корову, он увидел отца этого мальчика: смущенный до крайности, тот шел его встречать. Зимою он колол дрова для бедных. Когда же высохло могучее ореховое дерево – «матриархальное», как он его называл, потому что играл под ним еще в ребячестве и много лет угощался орехами с этого дерева, – он попросил разрешения взять ствол себе, отнес домой и вытесал из него шесть досок, которые поставил у изножья своей кровати, а остатки распилил и расколол на дрова для бедных. Еще делал он парням мячи для игры в пелоту, а для ребятни всякие игрушки.
У него было в обычае навещать больных вместе с врачом, и он требовал, чтобы предписания врача исполнялись неуклонно. Всего более его занимало повивальное искусство и выкармливание детей, и он почитал величайшим богохульством обычные разговоры насчет того, что, мол, «помер сосунок – Богу ангелок» и «Бог прибрал, обуза с плеч». Он от всей души сокрушался, когда умирали дети.
– Мертворожденный младенец либо умерший тотчас после рождения, – сказал он мне как-то, – вот самая страшная тайна для меня: младенец, познавший крестную муку! И еще – самоубийство.
И раз было – покончил один самоубийством, и отец его, приезжий, спросил дона Мануэля, разрешит ли тот похоронить его сына в освященной земле, и дон Мануэль отвечал:
– Разумеется, ведь в последнюю минуту, в предсмертный час, он раскаялся, тут нечего сомневаться.
Частенько он наведывался в школу, помогал учителю, учил вместе с ним, и не только катехизису. Все потому, что избегал одиночества и праздности. До такой степени, что в летнюю пору со всеми деревенскими, а в первую голову с молодежью и ребятней, ходил посмотреть на пляски. И не раз случалось ему играть на тамбурине, пока парни с девушками плясали; у другого это казалось бы гротескным осквернением духовного сана, а у него получалось каким-то священнодействием, как бы частью богослужения. Звонили «Ангелус», он откладывал в сторону тамбурин, обнажал голову, а вслед за ним и все остальные, и читал молитву: «Ангел Божий возвестил Марии, радуйся, Мария…» – и затем говорил:
– А теперь на покой до утра.
– Самое главное, – говаривал он, – чтобы деревня была довольна, чтобы все люди были довольны тем, что живут на свете. Довольство жизнью главнее всего. Никто не должен желать себе смерти, покуда Бог ее не пошлет.
– А я вот желаю, – сказала в ответ одна женщина, недавно овдовевшая. – Я хочу быть там, где мой муж.
– Да зачем? – возразил дон Мануэль. – Оставайся здесь и молись Богу за упокой его души.
Как-то на свадьбе он сказал: «Эх, если бы мог я всю воду нашего озера превратить в вино, в эдакое легкое винцо: пьешь себе, пьешь и не хмелеешь, только пуще веселишься… или уж если охмелеешь, чтобы хмель был веселый!»
Раз как-то появилась в деревне труппа нищих циркачей. Возглавлял ее паяц, при нем была жена, тяжело больная да к тому же на сносях, и еще было трое детей; все они подыгрывали ему во время представления. Пока паяц выступал на деревенской площади, где смешил старых и малых, жена его, почувствовав сильнейшее недомогание, принуждена была удалиться; муж проводил ее взглядом, полным тревоги, а детвора – взрывом хохота. И еще проводил ее дон Мануэль; он повел ее до постоялого двора, где циркачи ютились в конюшне, и там, в углу, помог ей умереть во благе. И когда кончилось представление и вся деревня узнала, и паяц узнал, о беде, все отправились на постоялый двор, и бедный малый со слезами в голосе сказал: «Верно говорят про вас, сеньор священник, что вы настоящий святой», – и, подойдя к дону Мануэлю, он хотел поцеловать ему руку; но дон Мануэль опередил его и, взяв паяца за руку, проговорил в присутствии всей деревни:
– Это ты – настоящий святой, мой честный паяц; я видел тебя за работой и понял, что работаешь ты не только ради того, чтобы доставить хлеб своим детям, но еще и ради того, чтобы доставить радость детям других, и говорю тебе, что жена твоя, мать твоих детей, которую проводил я к Богу, покуда ты работал и приносил людям радость, опочила в мире, и ты встретишься с нею на небесах, и будет тебе платой смех ангелов, потому что ангелы небесные смеются от удовольствия, радуясь твоему искусству.
И все тут плакали, и стар и млад, плакали столько же от горя, сколько от непостижимого блаженства, в котором тонуло горе. И позже, вспоминая этот торжественный миг, я поняла, что невозмутимая жизнерадостность дона Мануэля была земной и преходящей формою бесконечной и вечной печали, которую с героической святостью он скрывал от людских ушей и глаз.
Читать дальше