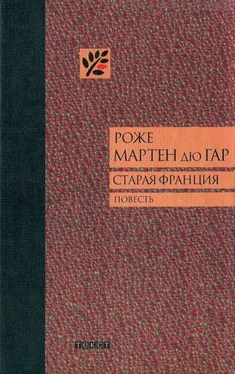Мадемуазель Массо с крыльца проверяет, хорошо ли Жуаньо затворяет за собой ворота.
Когда мадам Массо, которую никто в этом краю не знал, поселилась со своей дочуркой в необитаемом до тех пор доме покойной бабушки ее мужа, про нее были пущены неблагоприятные слухи. Но можно ли было утверждать, не впадая в неправдоподобие, что эта не вылезающая из церкви богомолка когда-то, в дни полной приключений молодости, пела в марсельских притонах? И что легкость ее ноги, как говорили, могла стать причиной поединка, где капитан Массо обрел смерть, — на гарнизонной стоянке в Южном Алжире?
Это было двадцать пять лет тому назад, и об этом никто больше не вспоминает. Уж двадцать пять лет, как мадам Массо живет одна с дочерью, в этой старой хоромине, где пахнет, как и от нее, камфарой, перчаточной кожей и нутром давно не открывавшихся сундуков. Две женщины занимают только две комнаты. Моль, мухи, мыши и пыль завладели коридорами и плиточными полами, вешалками с нагроможденными на них пустыми картонками и белыми комнатами с грубо отделанными панелями, с расшатанными стульями и кроватями под балдахинами. Перед окнами образовались черные кучи, которые при малейшем дуновении шелестят, как опавшие листья: подохшие мухи — со скуки подохшие.
Стоя посреди комнаты, мадам Массо переворачивает на все лады в кукольных своих пальчиках пакетик. Она ждет возвращения своей телохранительницы. Во всем, что требует какого-нибудь самостоятельного почина, она полагается на эту сильную девушку, костистую и полнокровную, которая умеет качать воду, пилить дрова, чистить трубы, натирать паркет, петь обедню, спорить со сборщиком налогов и даже при случае ловко свежевать кролика, вылущивая ему глаза кончиком ножа.
Мадемуазель Массо быстро вскрыла посылку. Но женщинам нужно еще добрых четверть часа, чтобы понять, что с ними произошло и что этот свинцовый тюбик, нежданно-негаданно ввалившийся в их существование, не что иное, как безобидный образчик зубной пасты, закатанный в проспект парфюмера.
Затем жизнь, на мгновение взбаламученная, вступает в прежнее свое течение: мать возвращается к вязке, дочь — к чижикам.
Ей теперь за тридцать. По весне смутная тревога то и дело манит ее к птичьей клетке; эта деятельная девушка может часами неподвижно глядеть на гнезда, где самки сидят на яйцах. Когда вылупятся птенцы, тайная ее радость — упрятать одного из них, еще тепленького, к себе под корсаж и приняться как ни в чем не бывало за работу. Раз она унесла одного с собой даже в церковь.
Каждый день — зимой в три часа, летом в пять — можно наблюдать, как она входит в храм. Она идет прямо к исповедальной будке и берет за занавеской свой фартук и косынку. Мадемуазель Верн к этому времени обычно уже там. Неторопливо, как две работницы, которые любят свое дело и стараются продлить удовольствие, подметают они каменный пол, обтирают скамьи, выравнивают ряды стульев, заправляют лампадку перед святыми дарами. Канун праздника для них уж праздник: в такие дни работа занимает все послеполуденное время. Надо начистить канделябры, сменить покров на престоле, просмотреть облачение, поставить в вазы зелень и цветы. Они устраиваются всегда так, чтобы работать бок о бок, и лопочут безостановочно, как две прачки; все новости дня просеиваются сквозь решето их назидательной строгости; но голос их так тих и однозвучен, будто они творят молитву; всякий раз, проходя перед дарохранительницей, они наскоро преклоняют колено: акт вежливости, заодно и почтительный и панибратский, ибо чувствуют они себя здесь по-семейному.
Мадемуазель Массо нехороша собой, но этого не знает. Грубые сочленения, лошадиная шея, густые брови, опухшие, словно ознобленные руки и, в довершение неприглядности, легкий черный пушок над уголками губ. За последние годы она часто ощущает какие-то огненные приливы к щекам; красные пятна появляются и исчезают на шее, на плечах, на руках; может быть, и на других частях тела. Она думала посоветоваться с врачом, но умерла бы скорее, чем разделась на глазах у мужчины: по многим причинам, из которых наименьшая — это состояние того, что надето у нее под платьем. Когда она меняет белье — в первое и третье воскресенье каждого месяца, — она открывает всегда дверцу зеркального шкафа, чтобы избежать нескромного соблазна посмотреться; она придерживает свою двухнедельную сорочку зубами и дает ей соскользнуть на пол только после того, как наденет на себя чистую.
Она удивилась бы, если бы ее спросили, счастлива ли она. Выражение ее лица — скорее беспокойное; бывают дни, когда странным одушевлением блестят ее глаза; а взгляд, которым она окидывает детей, часто исполнен чрезвычайной нежности.
Читать дальше