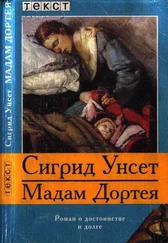Но этой ночью, совершая свой путь под зимнею луной, словно выхваченный из потока времени и жизни, стоя на краю вечности, он понял справедливость слов, что слышал в детстве: самый тяжкий грех – усомниться в милости божьей. Не дать сердцу, пронзенному копьем, простить тебя. В этом холодном чарующем свете представилось ему, что он сам испытал подобные мучения, если только человеческое сердце можно сравнить с сердцем бога, – так лужа в дорожной грязи отражает звезду, изломанную, дрожащую под испещренным звездами ночным небом. Он вспомнил тот вечер много, много лет назад в дни его юности, когда он приехал в Берг и услышал из уст Арнвида, что она хотела утопиться, чтобы избежать его прощения и любви, не дать осуществиться его горячему желанию взять ее на руки, унести и дать ей убежище.
В эту ночь он словно наяву видел перед собой Арнвида; друг увещевал его: ты принял все, что я мог дать тебе, и потому ты мой лучший друг. Он подумал о Турхильд, он не встречался с ней с того самого дня, когда ему пришлось выгнать ее из своего дома за то, что она носила под сердцем его дитя, дитя женатого человека. Он никогда не видел своего сына, не смог защитить от позора ни мальчика, ни мать. А Турхильд ушла, не сказав ему ни одного горького слова, не жалуясь на свою судьбу. Турхильд, верно, так сильно любила его, что понимала: это последняя услуга, которую она могла оказать ему, – уйти без жалоб. И это было самым сильным утешением в ее горе – то, что она смогла сделать ему добро.
Даже для самого жалкого грешника самое худшее, когда друг, попавший в беду, не хочет принять его помощь. И хотя он столь глубоко погряз в грехе, испытал так много горя, бог ниспослал ему счастье: он смог дать Ингунн то, что хотел, и ни разу не было ему сказано, что мера исполнилась. И снова слова, услышанные им в детстве, возникли в душе его, сияя, и он понял их смысл до конца: «Quia apud te propitato est: et proper legem tuam sustinui te, Domine» [Но у тебя прощение, дабы благоговели к тебе. Ожидаю господа, ожидает душа моя, уповаю на слова его (лат.)].
Чужой конь устал под ним и остановился в поле, чтобы отдышаться. При свете луны, стоявшей высоко на небесной тверди, пар, идущий от коня, казался серебряной дымкой. И он сам, и конь – оба были белые от инея. Улав очнулся и огляделся вокруг. Позади него, чуть поодаль, на лесной опушке стоял незнакомый хутор; прямо перед собой он увидел белую гладь, окаймленную опушенным, искрящимся от инея камышом, который слабо шелестел под ветром, – озеро! Нет, куда же он попал? Видно, взял слишком глубоко на восток, в сторону от моря.
Луна опустилась низко к юго-западу и потеряла свой блеск, небо начало светлеть и голубеть, а ближе к земле чуть отливало красно-желтым, когда Улав наконец выехал из лесу и увидел знакомые места – перед ним было несколько маленьких хуторков, лежавших на восточном краю прихода. Самый короткий путь отсюда в Хествикен вел через Лошадиную гору. Окоченевший, иззябший, вконец измученный, стоял он, потягиваясь и зевая, – он спешился, чтобы вести уставшего беднягу коня вверх по склону. Медленно погладил он чужую животину, похлопал по морде. Иней и замерзшая пена застряли у коня в шерсти. Наступило утро.
Поднявшись на вершину гребня, он постоял немного, прислушиваясь, – всеми своими чувствами он ощущал необычайную тишину: фьорд затих, скованный наступившими морозами. Вверх и вниз, насколько хватало глаз, он видел ледяной покров, шероховатый, корявый, серо-белый. В начале недели южный ветер сломал первый лед на фьорде и пригнал льдины к берегу, а нынешней ночью мороз снова сковал их в одно. Легкая морозная дымка, словно пар, заволокла весь мир, иней разлохматил деревья и кусты, а поднимающееся в морозном мареве солнце окрасило воздух в красноватый цвет.
Когда на туне раздался стук копыт, из дверей вышел монах встретить его.
– Слава богу, ты поспел вовремя!
И вот он стоял у ее постели. Она лежала, сложив крест-накрест худенькие желтые руки на впалой груди, словно покойница; лишь глаза ее под тонкой, почти прозрачной пеленою все еще слегка двигались. Сердце его уколола острая боль, он понял, что ей уж недолго лежать здесь. Вот уже более трех лет входил он в эту горницу и выходил из нее, покуда она лежала распростертая на постели, измученная, в силах лишь пошевелить головой и руками. Господи Иисусе Христе, неужто для него так много значило – лишь бы она жила на свете!
А монах все говорил и говорил – о том, сколь легко ей будет теперь, когда она наконец избавится от страданий, ведь как только она могла терпеть, бедняжка, – в последнее время спина у нее была сплошная кровавая рана! Терпелива и благочестива она; когда он, брат Стевне [ 122], давал ей последнее причастие, то сказал: дай нам, господи, всем быть готовыми принять смерть, когда приидет час наш, как госпожа Ингунн! Вскоре она впала в забытье и лежит так вот уже двадцать часов, так в себя и не приходила; похоже, она отойдет тихо. Тут монах начал расспрашивать Улава, как он доехал. Он говорил без умолку.
Читать дальше