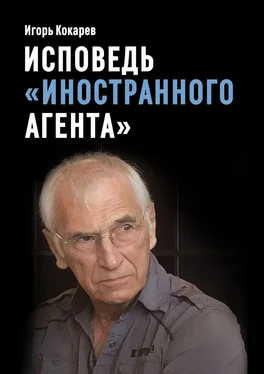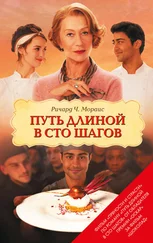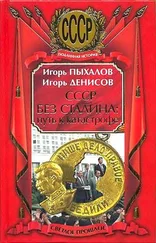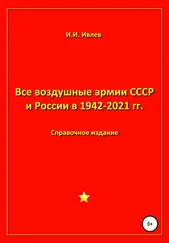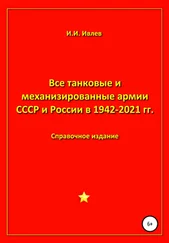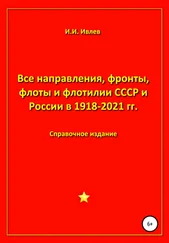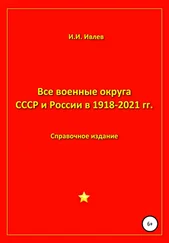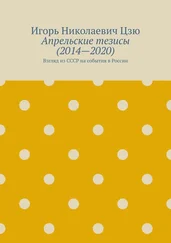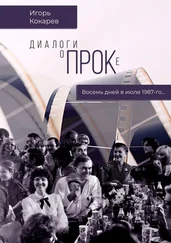Помню, как однажды заговорил о них, об этих ориентирах в лоб:
– Представьте, вы идете в ветренный день по набережной вдоль озера, где гуляют волны. Вдруг слышите крики о помощи и видите перевернутую волной лодку. Тонут три человека: знакомый профессор, молодая девушка и ребенок. Вы не раздумывая бросаетесь в воду и гребете к ним. Пока плывёте, видите, что все трое-таки тонут. Кого будете спасать первым?
Вижу оживление на лицах, улыбаюсь загадочно и жду ответа. Первой подняла руку девушка:
– Наверное, ребенка? – голос неуверенный, робкий. Ее перебивает рядом сидящий парень:
– А я бы спас сначала профессора. Он все же нужней обществу.
Бедную девушку почему-то не спас никто. И я торжествующе, но с удрученным видом говорю:
– Хотите знать правильный ответ?
На лицах стопроцентное включение внимания и интереса.
– Ближайшего!
За этим следует пауза. Минута на осмысление.
– Кто знает, почему?
И вот тут начинается самое главное. Коллективная мысль переходит как бы в другой регистр непризнанного в стране абстрактного гуманизма, где глубоко спрятаны нравственность, совесть, человеколюбие. А мне этого и надо: задан камертон дальнейших наших бесед. И мне самому любопытно будет их слушать и слышать…
– Что у тебя за профессия? – спрашивала жена. Я не мог ей ответить. Назвать себя киноведом или кинокритиком? Это не так. Социологом кино? А есть такая профессия? Может быть культуролог? Я до сих пор затрудняюсь, как отвечать на этот вопрос в разных официальных анкетах. Да и какая разница? Мне просто интересно. Интересно изучать причуды бытования кино в обществе, и, возможно, на самом деле открывать кинокритике зрителя. О зрителе уже писали и другие не кинокритики – популярный тогда философ Юрий Давыдов, его супруга Пиама Гайденко, мой сосед философ Валентин Толстых.
Партийные же киноведы и кинокритики все еще хранили верность своему птичьему языку, хорошо маскирующему их мысли. Мне их язык был чужд, как и наш для них. Лишь смелая и проницательная Майя Туровская решится обратить свой взор на массовую киноуадиторию и точно расставит акценты в отношениях искусства с массовым сознанием, назвав такое восприятие кино на всякий случай внехудожественным.
В 70-х социологией кино займется и НИИ киноискусства при Госкино СССР, когда партия потребует исправить пугающее снижение доходов от кино. Почему? Удивлялись партработники. Перехват зрителя телевидением? А почему тогда бешеный успех «Человека амфибии» и индийских мелодрам, а также тщательно скрываемых сборов от десятка американских фильмов, которые в год приносили больше, чем 150 советских фильмов?
И вообще, откуда берутся советские нудные фильмы? В прессе начнется долгая, такая же нудная дискуссия о «серых фильмах», о халтуре и непрофессионализме ни в чем не виноватых советских кинематографистов, якобы не владеющих секретами жанровых фильмов. С другой стороны, критиковали и зрителя, пристрастного к «низким жанрам», и рекомендовали ввести в школе уроки кинематографа, как уроки литературы, чтобы дети учились постигать шедевры авторского кино и не отвлекались на всякие глупости.
Но никто не осмеливался писать о том, что очевидно советский зритель отходил постепенно от идеологии, мобилизующей его на жертвы и подвиги во имя светлого будущего. Уже сказано Жванецким: «В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места.»
А мои студенты как раз это и обсуждали. Нас пока никто не проверял, а среди студентов стукачей не было. И мы может быть наивно, но честно и откровенно обсуждали фильмы хрущевской оттепели, стараясь понять, что именно они меняли в нравственной атмосфере общества. С одной стороны, кино получило право на развлечение, а с другой – на более объективное исследование советского человека как такового.
Мне казалось правильным изучать, наконец, нашу жизнь по фильмам, ведь были же такие, что раскрывали ее больше, чем все газеты и журналы вместе взятые. Разбирали шедевр Колотозова «Летят журавли» 1957 года, раскритикованные тем же Хрущевым, благодаря которому они и появились. Говорили о том, что, наверное, значит для фронтовиков, да и не только для них, чистая как слеза «Баллада о солдате». Я рассказывал о том, как критиковали шахтеры Каратау мои любимые «9 дней одного года» и тихо вздыхали на «Отце солдата» Резо Чхеидзе. Мы размягчали время, в котором стала возможной исповедь поколения «Мне 20 лет» Марлена Хуциева, и не только наивный борец за справедливость из «Берегись автомобиля», но и неустроенная в мирной жизни лётчица, прошедшая суровую школу войны из «Крыльев» замечательной Ларисы Шепитько. Это, собственно, уже был мир не вполне советского, скорее нормального человека.
Читать дальше