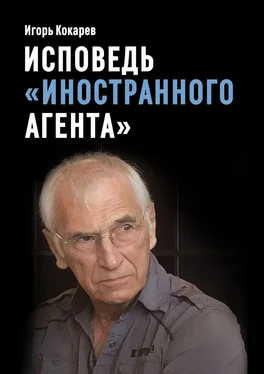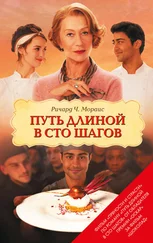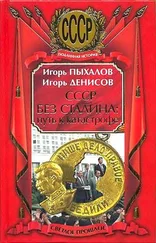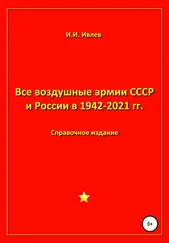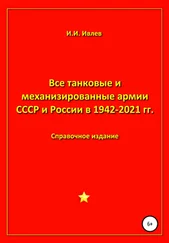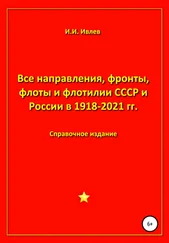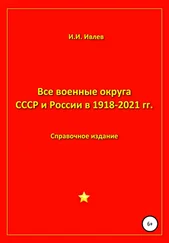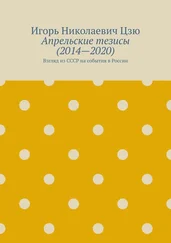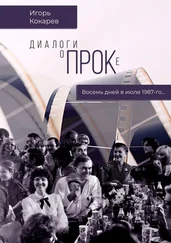Я слышал, что в Италии судьба сведет его с известной голливудской журналисткой, которая серьезно увлечется русским Робертом Рэдфором, и они вместе улетят в Америку. Спустя годы окажется, что Джоан и Олег окажутся отличной парой. Они будут жить вместе долго, дружно и творчески. Джоан будет его добрым ангелом. Наши судьбы еще тесно переплетутся через много лет…
Олег будет не только сниматься, например, в «Красной жаре» с Арнольдом Шварцнегером, но они вместе с верной и деятельной Джоан откроют Западу прекрасную классику советской мультипликации. Это отдельная почти детективная история будет описана мною через тридцать лет, когда я сам буду какое-то время главным редактором газеты Союза кинематографистов. В большой статье я расскажу, на что уйдут годы их титанической работы для того, чтобы открыть нашу чудесную, погибающую в архивах мультипликацию всему миру, и как жадная советская власть обольет любимого миллионами артиста грязными помоями.
В 1968 году Николай Алексеевич инициировал первую после 30-х годов всесоюзную конференцию «Кино и зритель» в союзе кинематографистов. Мне была поручена связь с университетами, где последние годы проводились социологические исследования. Такие исследования входили в моду в Прибалтике, в Свердловском университете, в Ленинграде. Во ВГИКе социологическое поветрие коснулось даже кафедры марксизма-ленинизма. Доцент Иосифян со студентами проводили опросы в кинотеатрах, отчеты публиковались во вгиковских сборниках.
Уже на этапе подготовки конференции я почувствовал что-то неладное. Несмотря на участие ученых авторитетов – ленинградского пушкиноведа Бориса Мейлаха, свердловского профессора Льва Когана, тартусского структуралиста знаменитого Юрия Лотмана, московских социологов Айгара Вахеметса и Сергея Плотникова, доцента ВГИКа Иосифяна, тезисы докладов требовалось почему-то согласовывать не с профессором Лебедевым, а с председателем секции кинокритики Союза кинематографистов Александром Евсеевичем Новогрудским. Опытный партиец явно тормозил конференцию, с мягкой отеческой улыбкой говорил нетерпеливым:
– Куда вы, ребята, ну, что вам, жить надоело?
Я-то и не догадывался, что играл с огнем. Какая дифференциация вкусов, говорил мне ласково Новогрудский, если в стране уже «единая историческая общность – советский народ»? То, что через 20 лет эта общность развалится, как карточный домик, и начнут бывшие братья навек мутузить друг друга не по-детски, он же не знал. А кто знал? Конференцию все же провели, я собрал и отредактировал сборник докладов, его напечатали на ротапринте, аж сто экземпляров. Весь «гигантский» тираж разослали участникам. Это была первая книжка по социологии кино после долгого перерыва. Что-то уже сделано для будущего, с некоторым удовлетворением отмечал я про себя.
Вонючим пузырем в болоте в 1969 году лопнул мракобесный роман Кочетова «Чего же ты хочешь?» Сталинист Кочетов, видимо, тоже видел признаки распада, но винил во всем Запад и нападал на нас, шестидесятников. Издевательскими рецензиями Зиновия Паперного «Чего же он кочет?» и Сергея Смирнова «Чего же ты хохочешь?» в самиздате дело не ограничилось. Схватка сталинистов с раскрепощенной оттепелью интеллигенцией продолжалась и в журналах и в творческой среде, где роман называли доносом и пасквилем на все прогрессивное, что подвигало страну к переменам.
Всех одернул журнал «Молодая гвардия», тут же напомнив о коммунистических идеалах: «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия». Неужели это всерьез, еще подумалось тогда. Значит, жить в бедности без дорог, без туалетов в доме и без газа на кухне – это наше большевистское счастье? Зачем тогда догонять и перегонять Америку? И для кого спецпайки и спецполиклиники? Ну, не идиоты же мы все в конце концов…
Идеологические бури проносились над огромной страной невидимками. Говорили, что ряд ученых, художников и философов направили в ЦК письмо против публикации мракобесного романа. Только все равно о том письме никто и не узнал. Только народный поэт и умница Твардовский вскоре будет уволен с поста главного редактора «Нового мира».
Семинар «Кино и зритель» с благословения Николая Алексеевича теперь поменял свое название на «Социологию кино», а я постепенно с ассистента сдвинулся на позицию преподавателя. Собственно, и преподаванием в полной мере это признать было нельзя. Я просто называл тему, задавал тон и вел к столкновению мнений и взглядов. Моя роль часто сводилась лишь к удержанию рамок темы и фокусе на нравственных ориентирах.
Читать дальше