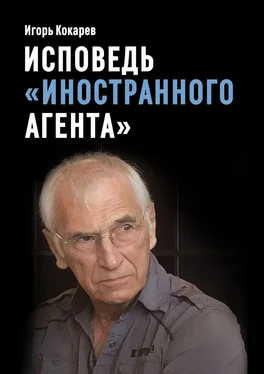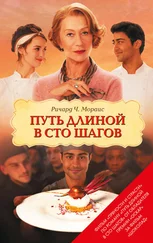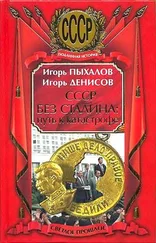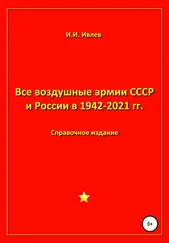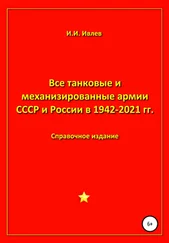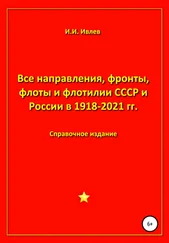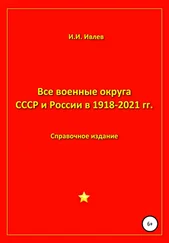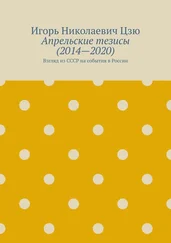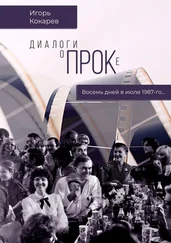Аспирантская жизнь – это учеба в одиночку. Нас было пять-шесть на нашем аспирантском семинаре, после которого мы расходились по своим делам. Мне много давал наш руководитель Владимир Евтихианович Баскаков, заместитель председателя Госкино, большой начальник, но умница. Он как бы приоткрывал логику, которой следовала партия, руководившая всеми сферами нашей жизни.
Я же лихорадочно наверстывал упущенное, читал бессистемно, выбирал интуитивно. Выуживал в океане печатного мусора повести Гладилина, Кузнецова, Аксенова, статьи в «Новом мире», публикации в «Иностранной литературе» и в «Юности». Читали вместе с Наташей, да, пожалуй, все вокруг тогда не упускали случая похвастаться именами. Я должен прочитать первым. Не дай бог кто-то скажет: «Как? Ты не читал «Москва-Петушки»?
Читая «Реализм без берегов» Роже Гароди, разбирался в абстракционизме, модернизме и концептуализме в современном искусстве. Злился, чего-то не понимая. Столько лет потеряно! Теперь без фундамента шаталось все здание. Но главное, что обнаружилось: мне нравилось думать об абстрактном! «Феномен человека» уже покойного Пьера Тейяра де Шардена не примирил меня с Богом, но мысли о переходе крупицы материи в крупицу жизни привели к представлению о мире как о чем-то бесконечно более сложном, чем его марксистское толкование.
От «Феномена человека» – к стенограммам съездов партии. Такой вот парадокс. Ищу ответы на глупые вопросы, замираю над стихами автора «Доктора Живаго», вылетая на хрен из реальности в его спутанный мир любви и безысходности. А сатира «Ивана Чонкина» Войновича почему-то не достает, не Жванецкий все же. «Москва – Петушки» Ерофеева легли на душу тяжелым камнем, как будто сам едва унес ноги из той электрички.
День мой обычно начинался с того, что я пробирался на учебные просмотры по истории кино для режиссеров или актеров и смотрел все, что попало, до обеда, а потом поднимался в библиотеку, где читал заданное, стараясь не смотреть по сторонам, до вечера, потом в автобус до метро и там до Новослободской, подрёмывая между усталыми людьми.
Студенческая жизнь бурлила где-то рядом. В курилках и в общежитии вспыхивали флирты и споры, обсуждались творческие идеи, чинились мелкие хулиганства, но этот поток студенческой жизни как бы обтекал меня, не прибившегося ни к одной стае. Стаи – ученики знаменитых мастеров собирались вместе только в большом зале на просмотрах новых зарубежных фильмов. Что их объединяло? Спрашивал я сам себя, сидя на общих собраниях и оглядывая немой зал, слушающий очередную речь парторга о долге художника перед народом.
Мне все же не хватало своей стаи, и когда Николай Алексеевич ввел меня в свой семинар «Кино и зритель», я жутко обрадовался. Он часто давал мне слово, вовлекая в процесс преподавания. Чувствовалось, что я в чем-то опережал этих мальчишек и девчонок из кинематографических семей. Были, правда, и самородки из провинции, их можно было заметить по серьезному отношению к учебе.
Николай Алексеевич с присущим ему тактом и интеллигентностью ненавязчиво перековывал провинциала, моряка и искателя приключений в киноведа. Он приглашал меня домой, благо, дом кинематографистов был выстроен рядом со ВГИКом, где добрая хозяйка поила чаем с печеньем, а хозяин живо интересовался и моим прошлым и мнением по поводу настоящего.
Я думаю, он готовил себе смену. Представить, чтобы профессор ОВИМУ, наш декан Коваленко взял бы кого-то с улицы к себе ассистентом на курс по котлам – смешно. А стать недоучившемуся инженеру ассистентом профессора Лебедева во ВГИКе на курсе по социологии кино – оказывается, возможно.
Николай Алексеевич вел занятия академично, с цитатами из классиков, меня же влекло к дискуссии со студентами. Главное, им это тоже нравилось. Таким образом от истории Общества друзей советского кино 20-х годов мы переходили к сегодняшнему кино и, в частности, к ножницам оценок фильмов критиками и массовым зрителем. Почему то, что нравится критикам, проходит мимо людей? Об этом говорила недоступная зрителям статистика кинопроката из ежемесячного бюллетеня Госкино «для служебного пользования». Мы же уже догадывались, что причина в том, что зритель хотел от кино чего-то другого, чем кинокритики, а не в том, что необразованная масса не понимает язык кино. Социология возрождалась после тридцатилетнего перерыва, и мне, тоже начинающему, было легко, мы росли вместе.
Жизнь налаживалась. Смущали, правда, эти дурацкие вопросы на кафедре. При моем появлении головы женщин поворачивались в моею сторону:
Читать дальше