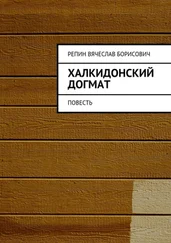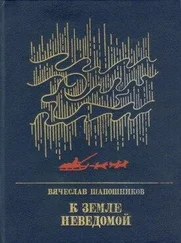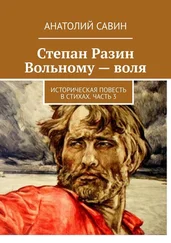На закате неутомимый Мишка Чертоус сговорил сотню отчаянных парней приступить к монастырю со стороны озера, где стена была пониже. Они собрали лодки и стружки, проволокли их в озеро по сухой протоке. К ним присоединилась пара сотен мужиков постарше. Поплыли с песнями, на берегу ударили в литавры.
Со стены дружно загремели пушки. Отчаянных парней осталась половина.
В ночь хоронили мертвых.
Пришло еще одно холодное утро. Оголодавшие крестьяне из табора не уходили, общество гомонило и соображало, что делать дальше. Максим позвал в шатер выборных лысковцев — Шестакова, Безрукого, Сидорова, казаков Чертоуса и Долгого.
— Замытились мы тут. Время на Арзамас итти.
— С иноками не управились, пойдем дворян крушить? — возразил Чертоус.
— В лесу мы их закрутим, числом задавим.
— Разве числом…
У Чертоуса не было желания идти на Арзамас. Лысковцы тоже мялись. Максиму в тишине стало казаться, будто он слышит шелест улетающего времени. Как всякий потерпевший поражение военачальник, он больше неприязни испытывал к своим, нежели к противнику. Он посидел, послушал шелест, неслышный Чертоусу, и вдруг его подняло и злобным ветром вынесло из шатра.
Глотнул сырого воздуха. Не время ссориться, не время орать на подчиненных. Скорее делать, что велит сердце, на то он атаман. Нерасседланный усталый конь стоял неподалеку, пожевывая в полусне. Максим на глазах у всполошившихся лысковцев вскочил в седло и свистом послал коня вперед.
За ним никто не двинулся. Конь ошалело скакал к воротам монастыря. Из бойниц и подошвенных щелей полезли граненые стволы пищалей. Осипов не смотрел на них.
— Отец Пахомий! — крикнул он.
Архимандрит явился, словно ждал.
— Што тебе, вор?
— Не лай меня. Я с миром. Отпусти Першу и прочих, омманом взятых, я уведу своих. Слово даю.
Пахомий хотел спросить, сколь стоит воровское слово, но призадумался. Смотрел на поле.
Бечевник Волги, пустыри за огородными кельями и берег озера были засорены праздным людом. На ярмарку такого съезда не бывало. Народ, конечно, страдный, к приступам непривычный. Но больно много. Станут держать в осаде, поразорят хозяйство. Из Нижнего вестей не поступило, считай — отрезаны. А воры своих привыкли выручать.
— Крест поцелуешь? Молебен отстоишь?
— Скоро обедня у тебя, отец святый. Впусти меня одного.
Вор оказался и смел, и обходителен. Пахомий велел приотворить калитку.
Осипов шел среди чужих, только что не рычавших на него людей. Пахомий, опасаясь, что не сумеет удержать их, увел Максима в верхнюю келью, где ждал их архиепископ Симон.
Никто не знал, о чем они толковали там. Монахи лишь отметили, что их духовные начальники и воровской атаман вышли к обедне не злые, а печальные. В церковь ввели захваченных крестьян и казаков. Максим едва взглянул на них. Стоял отдельно, благо монастырские сторонились его, словно чумного. При возгласе: «Изыдите, оглашенные!» — дико оглянулся и вздрогнул. Потом уставился на образ божьей матери, забыл креститься.
Он вспомнил, как уезжал из дому — почти не слушая, что говорила мать. У нее были, как у богородицы, две резкие морщины, по ним торили дорожки слезы. Одна морщина, верно, за младшего сынка, другая — за Максима. Лицо и лоб помяты мелко, будто затертая грамотка, которую никак посланец не довезет до господина. Он вспомнил, что сказала мать: «Не лей, Максимка, лишней крови!» Не о врагах она заботилась, а о его душе.
Душу его съедало тяжелое сомнение. Первая неудача показала, как может быть слабо его многотысячное войско. И поневоле гвоздила мысль: знал ли, угадывал ли это Разин? А если знал — зачем послал его? На гибель? Вспомнилось, что Степан Тимофеевич ни разу не заговорил с ним о Нижнем Новгороде и даже Арзамасе, будто не верил, что Максим может захватить их. Тогда — не для того ли послан был Максим, чтобы тысячами трупов крестьян и посадских заслонить казацкое войско под Симбирском от Долгорукова? На это намекнул сегодня в тихой беседе архиепископ Симон…
У ворот, пропустив вперед освобожденных, Максим с запоздалым вопрошанием оглянулся на Симона и Пахомия. Архимандрит смотрел надменно, Симон сказал:
— Сынок, смирись! Об чем мечтаешь ты, тому еще время не пришло.
Максим, не поклонившись, вышел за ворота.
Через час крестьяне сворачивали табор, грузили в лодки пушки и неуместно сиявшие литавры. Монастырские крестьяне и иноки ликовали на стене, «всяк себе доблесть приписуе». Они не знали, что Мишка Чертоус оставил в монастырской слободке своих дозорных.
Читать дальше