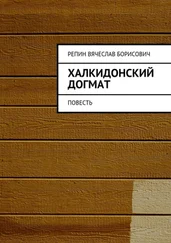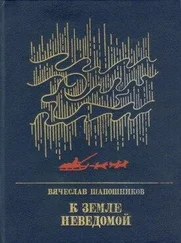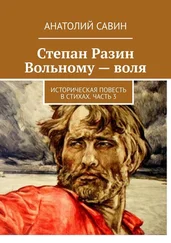Высадившись и разобравшись на четыре сотни, лысковцы побежали по размокшему песку. Пушчонки, бывшие на попечении сбежавшего воеводы, тащили следом. Крестный ход в честь покрова богородицы не растрогал их: отношения с монастырем так упорно крутились вокруг рубля, что поздно было действовать на них умиленным пением. Лучшие, то есть домовитые и зажиточные, люди — Костя Шестаков, Лучка Сидоров и Клим Безрукий — подбадривали землячков криками, не давали отставать. Здесь, кстати, как и в соседних селах, они оказывались заводилами бунта.
Отцу Пахомию не верилось, что лысковцы способны напасть с оружием на крестный ход. Однако ни у него, ни у братии не было желания мученичества. Монастырские крестьяне стояли по стенам с пищалями и тлеющими фитилями. Живя на обеленных землях — без податей в казну, они держались за монастырь, как держатся люди даже за малые преимущества перед другими.
Лысковцы десяти шагов не добежали до стены, когда монахи, налезая друг на друга, утискались в задние воротца. Сверху впустую, пробуя голос, громыхнули пищали. Осада Макарьева монастыря началась.
Крестьяне долго и неспоро устанавливали пушки. С опаской заряжали. Закрыв глаза, Безрукий поднес фитиль… Ядро ушло за монастырь, кануло в озеро. Другое упало в середину монастырских хозяйственных строений, за стеной.
— Остынь, — сказал казак Безрукому. — Побереги зелье, бумага дешевле.
Крестьяне согласились, что после эдакого грома монахам остается просить пощады. Лысковский площадной подьячий, втайне ужасаясь последствий, сочинил грозное письмо архимандриту. Доставить его, а заодно принять ключи от кладовых, выбрали пятерых мужиков с Федором Новобровским.
Затем раскинули на берегу костры, стали сушиться и варить уху. Только разварились ерши, добавленные к стерляди, вернулся Новобровский. Письмо Пахомий взял, но начал хаять Новобровского, пугать судами божьим и государевым… Лысковцы не хотели отступать. Они устраивались табором, заняли кельи огородников. За суетой не углядели, как через малую калитку ловкий монашек вывел мерина и погнал его в город. Скоро воевода Голохвастов получит тщетную мольбу о помощи.
Второго октября пошли дожди. Свидетель, некий Гришка, сообщает, что в те же дни мурашкинцы, затеяв нечто вроде разведки боем, «не доходя Арзамасу за 4 версты стали думать, что погода-де не по них, и идет дождь. И он-де, Гришка, им говорил, чтоб они не ходили, видя погоду не по себе. И те-де воровские казаки поворотились назад в деревню». Такое же унылое желание испытывали лысковцы. Дождь лил без перерыва три дня.
Четвертого октября в табор явился Осипов.
Он испытывал подъем удачливого головщика, чьи указания все охотней исполняются в тяжелой неразберихе войны. Он почти не делал усилий для умножения войска. Его казачья сотня обросла пятнадцатью тысячами крестьян. Они были уверены в победе: в войске князя Долгорукова дворян с холопами было намного меньше.
Утром иссякла влага в небе, вызрело солнышко, и сено для огненных привалов стало подсыхать. Солнце же озарило берег со множеством вооруженных и обозленных людей, готовых разобрать монастырь по камешку. Максим позвал лысковского подьячего, тот бодро отписал: если-де чернецы отворят ворота добровольно и с честью примут казаков, атаман обещает не трогать монастырского имущества.
С казаком Першей Ивановым Максим пришел из Симбирска. Он верил Перше, и тот верил, что атаман его не выдаст. Его Максим и послал с письмом к архимандриту, придав еще казака и пятерых крестьян.
Помахивая грамотой, Перша подъехал к воротам. Он был настроен легко и весело, долгожданное солнышко добрило его, как всех людей, привыкших жить на воле. Свистнув заливисто, он воздел письмо на пику и подал мужику, свесившемуся с белой и казавшейся совсем невысокой стены. В эту минуту неторопливо и скрипуче раскрылись дубовые ворота, и полтора десятка мужиков и здоровенных иноков, выбежав верхом и пеше, навалились на посланцев. Ножами они свалили лошадей, обушком топора оглушили Першу, а сопровождавшие его крестьяне дали скрутить себя. Когда Максим сорвался, подлетел к воротам, его и казаков встретили подошвенным боем из низких, у самой земли, щелей в стене.
— Ну, иноки, крестопреступники! — крикнул Максим сквозь гром пищалей, таких же древних, как и чудотворная икона Макарьева монастыря. — Не ослобоните моих молодцов, всех посеку без жалости!
Монастырские детеныши смеялись на стене.
«Не дорога мне сия обитель, — выступил Осипов перед выборными лысковцами, — а дорог Першка Иванов». Он снова написал Пахомию.
Читать дальше