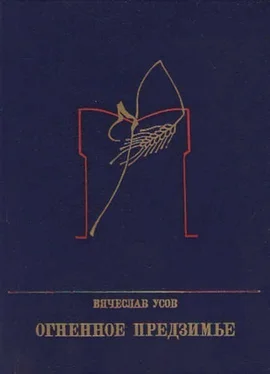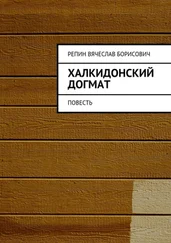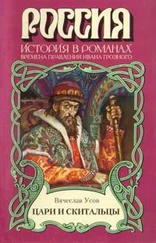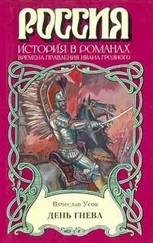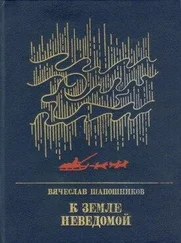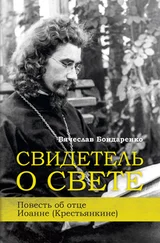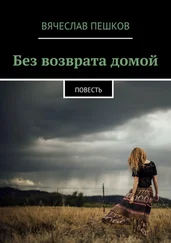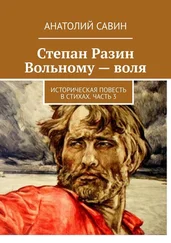Есть время обжигать и время разбивать корчагу. Не жмитесь к стенам, братие, вот миса с дорогим вином, настоянным на сотне трав. С ним да войдет в нас вольный дух лесов со светлыми полянами, травных укосов и межей по краю пашен, политых нашим потом, и станет нам не страшно, а только горько: как мирно и трудолюбиво можно было жить на сей земле!
Помянем убиенного Степана Тимофеевича, о нем вспомянут еще не раз и многажды солгут. Ославят душегубцем и разрушителем домов, другом одних кабацких зернщиков и голи. Таких друзей еще немало явится на Русь, но только о Степане Разине не перестанет тосковать народная душа. Ибо он был чудным угадчиком умыслов и мечтаний трудовых людей.
Но трудовым и добрым не справиться со злыми. Мы — испытали. От наших дней потянутся столетия все горшего холопства. Не удаляйтесь, милые, от дыма — нам, непримиренным, в сей жизни места нет.
Огонь не жжется, мы уснем в угаре. Вот уж накатывают пророческие сны. Белые птицы. Нет, то разорванные приказные бумаги. Снежные хлопья и заяцы в камнях — сироты государевы, ознобленные наступающей зимой. Она пребудет долгой.
Так сожигались в России после казни Разина. Страна не всколыхнулась от тех костров. Иную тризну правили на Волге.
Астрахань не сдавалась. Товарищ Уса Федор Шелудяк вновь двинулся оттуда под Симбирск — как раз в то время, когда Степана Тимофеевича везли в Москву. Верили астраханцы, что им удастся раздуть подернутые пеплом угли? Или то был последний всплеск мстительного отчаяния, знак воеводам, государю: мы не смирились!
Взять Симбирск не удалось, но и Астрахань не давалась воеводам. Все лето и до глубокой осени 1671 года держался непокорный город, где правили не дьяки и бояре, а вольный круг. Как тут не вспомнить старицу Алену: «Если бы все дрались, как я…»
Потом потекли душные и тревожные годы с новыми войнами и бунтами. Но о Степане Разине не забывали: имя его служило мерой вины бунтовщиков, а для иных — и поводом для возмущения. До конца семнадцатого века не песенный, а живой и грозный Разин жил в разговорах, тайных умыслах простых людей, в допросных списках и доносах, в посольской переписке и церковных проклятиях… Раскольники, бежавшие на Дон, замысливали поход на Волгу и к Москве, «как и Стенька Разин». Об атаманах, лишавших сна тамбовских воевод, доносили, что с ними идут казаки Разина. А на исходе века возмутились те, кто помогал боярам против Разина, не «потянув» заодно с ним: московские стрельцы.
В начале нового столетия поднял Дон Булавин, и один из его есаулов объявил: «Я — прямой Стенька!»
И все же мятежи и бунты не выдвинули человека, который в памяти народной оставил бы такой же резкий и светлый след, как Разин. Здесь не было ошибки или обольщения: в то время он вернее всех в России угадал, что ей всего нужней свобода.