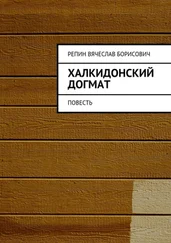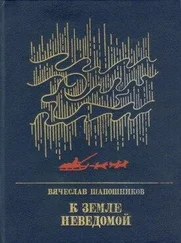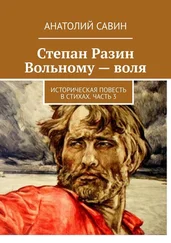— Черные люди сами должны свои дела вершить. Их власть, атай…
— Власть — это сила, Степа. Сила у бояр.
— А круг?
Живой костер играл тенями на их серьезных лицах, являл их то мрачными, то просветленными догадкой. Как будто ложь и правда, подобно черным и алым бабочкам, порхали то на Корнилу, то на Разина.
— Круг на Дону. А на Руси народу много, всяк свое вопит, им без царя да без приказов не обойтись.
— Так я им и вез царя. Вон он сидит.
Корнила оглянулся с ленивым пренебрежением. Поодаль от костра на цветной кошме лежал Андрей Черкасский. Это его вез Разин в красном струге, выдавая за царевича Алексея. Дядя его Каспулат настоял, чтобы Андрей во искупление невольного греха сопровождал пленного Разина в Москву.
— Хорош он был бы в Грановитой, — осклабился Корнила.
— А может, черным людям иного и не подобно, атай. Сильный да грозный царь нужен дворянам, людям военным и служилым, а черные обыкли сами об своей жизни мыслить. Они бы обошлись, я чаю. Обходятся казаки…
— Все ты обдумал, кроме одного: служилые в России — сила, иной же нет. Вот Каспулатов племянник и везет тебя. Помнишь ли, как перед кызылбашским твоим походом плясал у нас Каспулат?
— Не с той ли пляски все пошло… А вез я в красном струге не сего красавца, а истинно царевича Нечая. Крестьяне да посадские поняли меня. Вез я в Россию — круг!
Так с каждой встречей, спором и ночным видением Разину все полнее открывалась правда, которую он верно, но смутно угадывал в своих порывах, умыслах и в грозных чаяниях голутвенного войска. Сами собой рождались и прикапливались проникновенные, разящие слова, и все увереннее ждал он страшной и желанной встречи. Когда всю силу духа и сердечный жар изольет он в беседе с государем, ему уже и гибель будет не так горька.
Через неделю въезжали в Курск. Корнила ехал впереди, непроницаемо щурясь на обывателей, детей боярских и стрельцов, расставленных по улице для береженья. С бездумным видом трясся на своей смирной кобылке Фрол, не спавший третью ночь. Семьдесят пять сопровождавших казаков то злобно красовались, тесня людей крутыми боками жеребцов, то, будто устыдившись, прятали глаза. Разина узнавали сразу, вздыхая и крестясь.
Но те, кто успевал несуетливо всмотреться в его лицо с округлыми бровями и мягко спутанной бородкой, не замечали на нем ни зла, ни страха, а только строгое и терпеливое ожидание.
Ожоги словно примораживали кожу, к исходу дня она уже не так отчаянно воспринимала жар, но кнут, живой и грубый, обдирал ее и пробуждал в глубинах естества новую боль. Она рождала злобу.
Не умеряло ее окаменелое стояние перед воеводой Долгоруковым, главным из бывших здесь бояр. Бешенством глаз, взаимной ненавистью они не уступали друг другу.
Степан Тимофеевич не спрашивал бояр, станет ли говорить с ним царь. Они ответят гнусным смехом, даже если приход царя уже решен. По некоторым обмолвкам Разин угадал, что государь готовит к нему особые вопросы, бояре ждали их… Прошли два дня, а царь не появлялся. Степана Тимофеевича заколаживало в обиде, выразить ее он мог одним молчанием посреди мучений.
В первое утро он еще пробовал шутить: ему и Фролу обрили голову, чтобы по каплям лить на маковку ледяную воду. К исходу второго часа капли казались свинцовыми… Степан, припомнив, как выбривают голову монахам при пострижении, сказал об этом Фролу.
Тогда же Долгоруков подловил Степана Тимофеевича. Тот не заледенел еще в упорстве, чего-то человеческого ждал от них и рвался доказать свое. Князь подкусил его — ты-де на одну чернь надеялся, а весь служилый чин против тебя. Ударил в самое больное, можно сказать — в причину поражения… Разин из суетного желания возразить вспомнил татарских мурз, отдавших ему саблю и имя для прелестных грамот, первым — Асана Карачурина. Но по тому, как радостно затрепыхался лебединым перышком писец, запоздало догадался о промашке и больше не назвал никого.
Он вовремя сообразил, чего хотят бояре: имен больших людей, сочувствовавших ему и принимавших его лазутчиков. Ходили слухи, будто князь Воротынский с казаками в сговоре… На некоторых кругах казаки вспоминали о нем по-доброму, но Разин знал, что дальше обыкновенного гостеприимства он не шел. Никто не шел… Степану Тимофеевичу, однако, удалось оставить бояр в сомнении и во взаимном подозрении.
А царь не появлялся.
На третий день не тело, а душа отказалась принимать боль, и Разин впал в беспамятство. Когда очнулся, снова был приведен в подвал. По строгому молчанию писцов, вхождению бояр, даже по чистоте заново вымытого пола он угадал, что близится поворот допроса. Стукнуло сердце: государя ждут!
Читать дальше