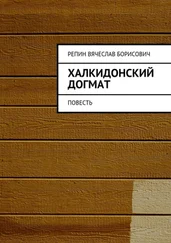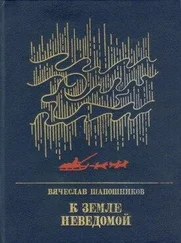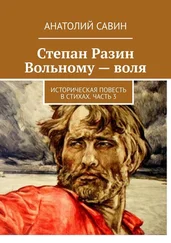— Что вы удумали, безумы? — решился спросить отец Иван после вечерней службы.
Не отвечали. Большинство — действительно еще не зная, не до конца обдумав и проникнув в замыслы Григория. Другие просто ждали, что скажет он. Григорий уже решился и знал, но с немногими соумышленниками до времени оберегал тайну… У отца Ивана не хватило душевных сил выпытывать, настаивать. Хотелось уберечь от гибели хотя бы единого из малых сил.
Те двое, что ходили с ним в Москву, а еще раньше согласились строить баньку, силой забрали свои семьи. Ушли с отцом Иваном вольно, без поклажи. В последнюю минуту догнал их распоп Григорий, сунул Ивану свои тетрадки и прошелестел иссохшими губами: «Коли спасетесь, их спасите». Отец Иван благословил его и отвернулся.
Темнело, от далекой Волги тянуло свежестью. В разбойном ветерке отцу Ивану почудился запах великих керженских болот.
Духовные отцы пересылались письмами:
«…А ныне, брате и отче, привезли к Москве донские казаки Стеньку Разина и с братом Фролкой. И бояре ныне беспрестанно за тем сидят: с двора съезжают в первом часе дня, а разъезжаются часу в тринадцатом. По два дни разбойника пытали. А на Красной площади изготовлены ямы и колы вострены… Народ молвит, что казнь будет шестого дня…
Носят слухи, яко неспокойно в малорусском гетманстве, но не поведаю теперь о сем, надо знать твердо. Как казнят Разина, скоро прибуду, поведаю все…
С самой весны, честной отче, у нас дожжи не бывали, все стоят жары великия, яри и травы погорели, овсы и по се число не всхаживали. Крестьяне оскудали и истощали, много траву рвут да ядят, прогневали бога».
Передавали и иные вести, от них страницы набухали кровью: Астрахань пе сдается, в чаянии царских воевод бунтовщики устроили побоище — сбросили с башни митрополита Иосифа, срубили его дворян. Митрополит едва не утянул с собою палача, толкавшего его с раската.
Жители волжских городов, желая получить прощение, ловили атаманов-казаков. Царицынцы выдали на казнь и муки Максима Осипова.
Дворяне громко толковали о тех, кто, сидя в государевых хоромах и приказах, допустил бунт, недосмотрел. Всех виноватей выглядел Ордин-Нащокин, глава Посольского приказа, в чьем ведении был Дон. У государя с ним давно копились разногласия по польским и иным делам. Ордин-Нащокин постригся в монахи.
Радостный слух пробился и из женской половины государевых хором: царица понесла! Рассказывали, будто государь, мечтая о наследнике, здравом умом и телом, в отличие от прочих сыновей, решил назвать его либо Иваном в честь Грозного, либо Петром — по слову: «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою». Известно, Петр по-гречески означает камень. Дворяне и бояре соглашались, что государству не хватает крепкого камня в основании столпа самодержавия.
Из той же половины, но от царевен, не возлюбивших новую царицу, шло иное: не только силой крепко государство, но и любовью, и доброй старой верой, особенно же — терпением и милосердием к народу. К тем, кто содержит и армию, и дьяков трудовой копейкой, да и обороняет при случае не хуже, чем дворяне. Разве не из посадских по прибору берут стрельцов, а из крестьян — солдат нового строя?.. Все понимали, что царевнам сии высокоумности не по зубам, испорченным сластями до черноты; а называли разных искусителей и любомудров, и первым — князя Василия Голицына. Удачливый красавец, он охотно, как свойственно молодым людям, пробалтывался о сокровенном: главизна всяческого зла в России — несвобода, жесткая прикрепленность посадских и крестьян, повязанных по рукам Уложением. И скудость наша от того, и Разин. В доме его видели рукописную книгу: «О поправлении всех дел, яже надлежат обще народу».
Иные слушали его внимательно. С опасливой усмешкой пересказывали, как обрезал его боярин Матвеев, переведя «обще народу» на латиницу: «Res publica!» При государе.
Тот только милостиво попенял философу: «Мыслить надо с оглядкой, Вася!» Тишайший наш государь.
Голодных же крестьян дворяне не жалели: станут смирнее, пожевав лепешек из травы. Как никогда, дворяне чувствовали силу. Страна лежала перед ними тихая, как бы заново отвоеванная, осталось закрепиться на украинах. Не ожидая совершенно тихой жизни, точили сабли, зная, что завоеванного не уступят никому.
В Закудемском стане Нижегородского уезда распоп Григорий Яковлев готовил паству к последней жертве.
— Иссохла береста, в черной корчаге — зажигательная смесь… Гореть не страшно, братие, страшно при жизни истлевать! Не говорите о грехе самоубийства, ни о бессилии: мы сожигаемся затем, чтобы огонь наш стал виден во всех концах родной земли. Нет у разбитых и казнимых иного пути к отолстевшим сердцам сограждан.
Читать дальше