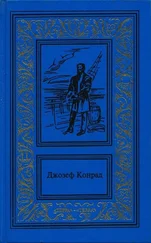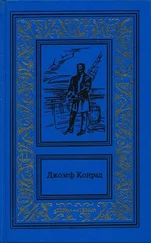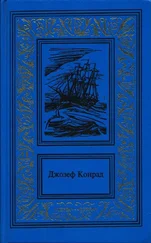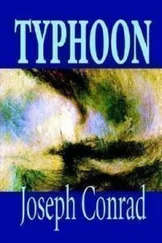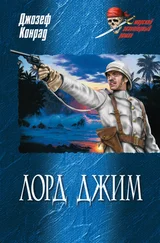Так Алван Хёрви и его жена и прожили подле друг друга пять благополучных лет. Со временем они узнали друг друга достаточно для комфортного сосуществования, но к по-настоящему близким отношениям они были способны не более пары лошадей, которые питаются из одной кормушки и спят под одной крышей в роскошном стойле. Его страсть была утолена и обернулась привычкой; у нее же были свои цели – сбежать из-под отчего крова, утвердить свою индивидуальность и двигаться в своем направлении (гораздо более перспективном, чем родительское); иметь свой дом, свою долю признания, зависти и одобрения. Они осторожно прощупывали друг друга, словно пара бдительных сообщников в выигрышном деле; поскольку оба были не в состоянии воспринимать события, чувства, принципы или убеждения иначе, чем в свете своего положения, своей популярности или собственной выгоды. Они скользили по поверхности жизни рука об руку в ясном и морозном воздухе – как два опытных конькобежца, выписывающих фигуры на толстом льду к восхищению зрителей и пренебрегающих скрытым течением, течением неугомонным и смутным; течением жизни, глубинным и незамерзающим.
Алван Хёрви дважды повернул налево и один раз направо, прошел вдоль двух сторон площади, в центре которой группа окороченных деревьев жалась в респектабельном плену железной ограды, и позвонил в свою дверь. Ему открыла горничная. По прихоти жены прислуга в доме была только женского пола. Фраза, которую девушка произнесла, принимая у него шляпу и пальто, заставила его посмотреть на часы. На часах было пять, и жены не было дома. Но в этом не было ничего необычного. Он сказал: «Нет, не надо чая», – и проследовал наверх.
Он бесшумно поднимался по лестнице. Тускло поблескивали медные прутья поверх красной ковровой дорожки. На площадке второго этажа мраморная женщина, целомудренно укутанная в камень от шеи до пят, тянула безжизненную ножку к краю пьедестала; в ее слепо выброшенной вперед белой руке был зажат канделябр. Дома Алван мог позволить себе изящный вкус. За приоткрытыми тяжелыми шторами темнели углы. На богатых тисненых обоях висели наброски, акварели, гравюры. Видно, что вкус изящный, даже артистический. Башни старинных церквей выглядывали над кронами дерев; холмы были пурпурными, пески – желтыми, моря – солнечными, небеса – голубыми. Молодая леди с мечтательными глазами возлежала в крепко привязанной шлюпке, компанию ей составляли корзина для пикника, бутылка шампанского и влюбленный мужчина в джемпере. Босоногие мальчишки умильно флиртовали с девчонками в лохмотьях, спали на каменных ступенях, забавлялись с собаками. Истощенная юная цветочница прислонилась спиной к голой стене; воздев затухающие глаза, она протягивала цветок. Рядом висели большие фотографии знаменитого искалеченного временем барельефа – застывшей в камне резни.
Ни один предмет в интерьере дома, разумеется, уже не задерживал на себе взгляд хозяина, он поднялся еще на один пролет и прошел прямиком в гардеробную. Светильник в гардеробной был выполнен в виде бронзового дракона – кончиком закручивающегося ровными кольцами хвоста он крепился к кронштейну на стене; из пасти, должным образом оскаленной, вырывалось, подобно бабочке, пламя светильного газа.
В гардеробной, конечно, никого не было, но стоило ему войти, как в комнате замельтешили люди. Зеркальные дверцы платяных шкафов и большое, в полный рост, зеркало жены отразили его с головы до пят, размножили, заполнив пространство благообразными двойниками. Одинаково одетые, с одинаково сдержанными и безупречными манерами, они двигались, когда он двигался, послушно останавливались, когда останавливался он, в них было ровно столько жизни и чувства, сколько он считал допустимым демонстрировать для приличного человека. Подобно живым людям – рабам чужих не самых оригинальных мыслей, они нарочитым многообразием движений создавали впечатление, что ни от чего не зависят. Двигаясь вместе с ним, они то приближались, то отступали, то появлялись, то исчезали: иногда казалось, что они прячутся за мебелью орехового дерева, чтобы вновь возникнуть в глубине полированных пространств. Они расхаживали, почти осязаемые и совершенно эфемерные, в достоверной иллюзии комнаты. И подобно всем мужчинам, которых он уважал, в двойниках можно было не сомневаться: ничего хара́ктерного, оригинального или ошеломляющего – ничего непредусмотренного или неуместного они не совершат.
Некоторое время он бесцельно перемещался в этой приятной компании, напевая популярную, и все же изысканную мелодию и рассеянно обдумывая деловое письмо из-за границы, на которое завтра утром надлежало написать осторожный и уклончивый ответ. Затем, подойдя к шкафу, он увидел в высоком зеркале край стоявшего за его спиной туалетного столика жены и, среди блеска оправленных в серебро вещиц, – белый край конверта. Это было столь неожиданно, что он обернулся едва ли не раньше, чем осознал свое удивление. Все двойники подле него повернулись на каблуках. Все выглядели удивленными. Все быстро подошли к конвертам на туалетных столиках. Он узнал почерк жены и увидел на конверте свое имя. Пробормотал «чрезвычайно странно», а затем почувствовал раздражение. Не говоря уже о том, что любая странность – сама по себе неприлична, факт причастности к ней его жены был вдвойне оскорбителен. Как же нелепо писать ему, зная, что он будет дома к ужину, но оставлять письмо вот так – на виду – показалось ему такой дикостью, что при мысли об этом он внезапно испытал смутное чувство опасности, абсурдное и причудливое ощущение, будто дом дрогнул под его ногами. Он разорвал конверт, взглянул на письмо и опустился в ближайшее кресло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу