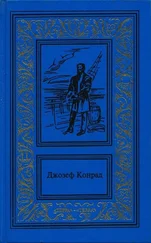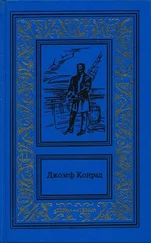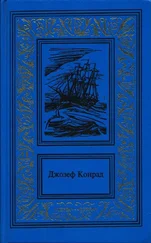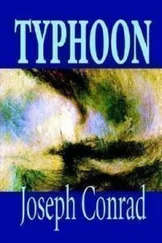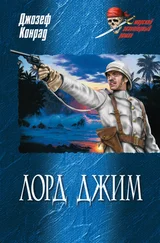У нее был широкий, как у гренадера, шаг, она была сильной и прямой, как обелиск; красивое лицо, высокий лоб, ясные глаза и ни единой собственной мысли в голове. Алван спешно поддался ее чарам: ее достоинства казались ему столь бесспорными, что он, не колеблясь ни секунды, объявил себя влюбленным. Под покровом этой священной поэтической выдумки он возжелал ее. У его желания было много оснований, но главное – он хотел овладеть ею по праву. К своей цели он шел с постной торжественностью, хотя на то не было никаких причин, кроме желания скрыть свои чувства – желания в высшей степени пристойного. Впрочем, поведи себя Алван иначе, никто бы не удивился, ибо чувство, которое он испытывал, действительно было страстью – не более предосудительной, чем страсть, которую испытывает к своему обеду голодный человек, хотя, вне сомнения, это было чувство более сильное и чуть более сложно устроенное.
После свадьбы они занялись расширением круга знакомств, и не без успеха. Тридцать человек знали их в лицо; еще двадцать из должного гостеприимства с улыбкой терпели их нечастое присутствие; по крайней мере пятидесяти стало известно об их существовании. Они вращались в большом мире среди достойнейших мужчин и женщин, которые боялись своих чувств, желаний и неудач больше, чем пожара, войны и смертельной болезни; они признавали лишь самые общепринятые выражения самых расхожих мыслей и брали в расчет только удобные истины. Общество это было чрезвычайно приятным, просто обитель добродетели, там не было места рефлексии, а все радости и горести низводились до уровня обыденных удовольствий и мелких неприятностей. В этом безмятежном мире, где благородные чувства насаждались достаточно густо, чтобы скрыть безжалостный прагматизм мыслей и устремлений, Алван Хёрви и его жена провели пять лет в благоразумном блаженстве, незамутненном сомнениями относительно высокой нравственности их существования.
Она, надо отдать должное ее индивидуальности, занялась всеми возможными видами благотворительной деятельности и стала членом всевозможных обществ спасения и преобразований под покровительством или председательством титулованных леди. Он стал живо интересоваться политикой; и, случайно встретившись с одним писателем – который тем не менее состоял в родстве с неким графом, – вынужден был финансировать отживавший свой век печатный орган. Это было квазиполитическое издание, одиозность которого лишь отчасти искупалась непомерной скукой. Поскольку на страницах этого в высшей степени безыдейного издания не случалось ни проблеска остроумия, ни намека на злободневность или протест, то с первого же взгляда Алван Хёрви счел его достаточно респектабельным. Впоследствии, когда его вложения окупились, он быстро смекнул, что в целом – это дело благое. Газета подкрепила его растущие амбиции; кроме того, он получал удовольствие от нового ощущения собственной значимости, которую давала ему эта связь с тем, что казалось ему литературой.
Эта связь еще больше расширила их круг. В их доме стали бывать ловкие писаки и рисовальщики, а редактор так и вовсе зачастил. Хёрви считал, что тот похож на осла из-за больших передних зубов (зубы полагалось иметь маленькие и ровные) и шевелюры чуть длиннее, чем принято. Впрочем, длинные волосы носили даже герцоги, а парень, несомненно, знал свое дело. Самым неприятным было то обстоятельство, что при всей его предельной, близкой к идеалу напыщенности, на серьезного господина он не походил. Элегантный и грузный садился он в гостиной, набалдашник трости парил перед его большими зубами, и разговаривал часами, толстогубо улыбаясь. Он не говорил ничего, что можно было счесть сомнительным или неприличным, речь его была причудлива – не сразу понятно, что в ней раздражало. Прямой нос под необычайно высоким лбом терялся меж гладких щек, мягкой линией переходивших в подбородок, по форме напоминавший снегоступ.
Лицом он походил на пухлого, не по возрасту сведущего ребенка, и на этом лице блестели проницательные, недоверчивые черные глаза. Он еще и стихи сочинял. В общем – осел ослом. Но те, кто волочился за фалдами его монументального фрака, казалось, находили в его речах прекрасное. Алван Хёрви считал это рисовкой. Артистический народ, помимо всего прочего, так претенциозен. Однако все это было очень кстати и даже выгодно, а кроме того, нравилось его жене, будто и она получала некую особенную тайную выгоду от этой интеллектуальной связи. И разношерстных и благопристойных гостей она принимала с таким высоким, тяжеловесным, присущим ей одной изяществом, что в сознании оторопевших новичков всплывали нелепые и неподобающие образы слона, жирафа, газели; готической башни или ангела переростка. Ее четверги становились популярны в их окружении, а окружение неуклонно росло, захватывая улицу за улицей. Оно уже включало в себя и Сады Таких-то, a Бульвар Сяких-то, и даже парочку площадей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу