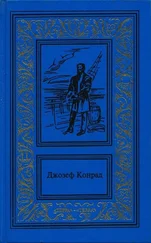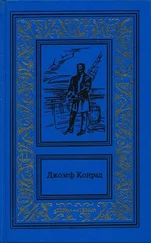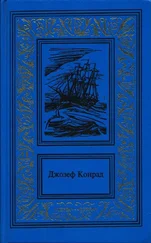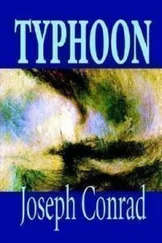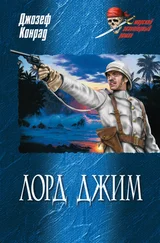Ему зачем-то понадобилось явиться лично и бдительно проследить за нашим отъездом. При всем нежелании показаться легкомысленным в отношении справедливых опасений империалистов всего мира, позволю себе заметить, что женщина с фактически смертельным диагнозом и мальчик неполных шести лет вряд ли представляли серьезную угрозу – даже для крупнейшей из мыслимых империй, взвалившей на себя бремя самых священных обязанностей. Подозреваю, что и этот добрый малый так не считал.
Позднее я узнал, почему он присутствовал при нашем отъезде. Я не заметил особых перемен, но месяцем ранее мама почувствовала себя настолько нехорошо, что встал вопрос, сможет ли она отправиться вовремя. В ситуации подобной неопределенности киевскому генерал-губернатору было подано прошение о двухнедельном продлении срока ее пребывания в доме брата. Сия мольба не получила совершенно никакого отклика, но как-то под вечер к дому подъехал уездный исправник и заявил выбежавшему навстречу дворецкому, что ему нужно лично переговорить с хозяином. Сию же минуту. Слуга сильно разволновался, решив, что это арест, и «ни жив ни мертв» от испуга, как сам он сказывал впоследствии, тайком, на цыпочках – дабы не привлечь внимания дам – провел капитана через темную гостиную (в которой свечи зажигали не каждый вечер) и дальше через оранжерею в покои дяди.
Без всяких предисловий полицейский сунул дяде документ.
«Вот. Умоляю, прочтите. Я не имею права показывать вам эти бумаги. Я не должен этого делать. Но я не могу ни есть, ни спать, пока это надо мной висит».
Уездный исправник, сам великоросс, много лет прослужил в наших краях.
Мой дядя развернул и прочел документ. Это был приказ, выданный генералом-губернатором в ответ на ходатайство. Он предписывал исправнику никаких увещеваний и объяснений по поводу болезни, будь то со стороны врачей или кого бы то ни было, не принимать, «а если она не покинет дом брата» – говорилось далее, – «утром дня, указанного в ее разрешении, вам следует препроводить ее под конвоем непосредственно [подчеркнуто] в киевскую тюремную больницу, где и будут предприняты надлежащие меры».
«Ради Бога, господин Б., проследите, чтобы ваша сестра уехала ровно в этот день. Не вынуждайте меня поступать так с женщиной, да еще и с членом вашей семьи. Думать об этом невыносимо».
Он буквально заламывал руки. Мой дядя молча смотрел на него.
«Спасибо, что предупредили. Даю вам слово, моя сестра уедет, даже если будет при смерти и ее придется нести до кареты».
«И то верно – разница-то существенная – в Киев ехать или обратно к мужу. Ехать все равно придется – живой или мертвой. И учтите, пан Б., в назначенный день я тоже явлюсь: не потому, что сомневаюсь в вашем слове, а потому, что обязан. Придется. Служба. Как бы там ни было, работенка у меня – врагу не пожелаешь, ведь бунтари среди вас, поляков, всегда найдутся, а страдать придется вам всем».
Потому-то он и сидел там – в открытой двуколке, запряженной тройкой лошадей, между домом и главными воротами. Я сожалею, что не могу сообщить имени этого непозволительно чувствительного стража великой Империи, дабы устыдить тех, кто верит, что победитель всегда прав. А вот имя генерал-губернатора, собственноручно приписавшего на полях приказа «немедленно привести в исполнение», я готов назвать. Фамилия этого господина Безак. Лицо высокопоставленное, деятельный чиновник, кумир русской патриотической прессы того времени.
У каждого поколения свои воспоминания.
Не стоит думать, что, описывая воспоминания, которым я предавался полчаса, пока не встретился с дядей за ужином, я совсем позабыл о «Причуде Олмейера». Упомянув, что за первый роман я принялся на берегу, дождавшись отпуска, я, вероятно, создал впечатление, что книга писалась урывками. Однако я не забывал о ней ни на минуту, даже когда надежда завершить ее была совсем призрачной. Многое становилось поперек дороги: повседневные хлопоты, свежие впечатления, давние воспоминания. Мною двигала не пресловутая жажда самовыражения, что побуждает художника к работе. То была другая, скрытая и непонятная необходимость, совершенно неясной и неуловимой природы. Быть может, какой-нибудь легкомысленный маг (должны же быть в Лондоне маги) от нечего делать околдовал меня, увидев из окна, как я блуждаю по лабиринту улиц без компаса и карты. Прежде я писал только письма, и то редко. Я в жизни не вел заметок, не записывал ни историй, ни впечатлений. Когда я сел за роман, у меня не было четкого замысла, да и всякое представление о том, как пишутся книги, было за пределами моего разумения. В грезах, что посещают всякого в минуты мечтательного оцепенения, среди сладостных картин, которые мы с таким упоением рисуем в своем воображении, я никогда не видел себя писателем. Однако, и сейчас это ясно как божий день, в ту минуту, как я дописал первую страницу рукописи «Причуды Олмейера» (на ней поместилось порядка двухсот слов, и такое соотношение сохраняется до сих пор – все пятнадцать лет, что я пишу), в ту минуту, как я по простоте душевной и поразительному невежеству написал первую страницу, жребий был брошен. Никогда еще Рубикон не переходили столь безрассудно – не взывая к богам и не страшась людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу