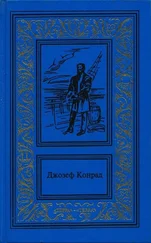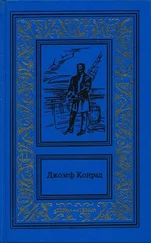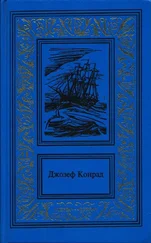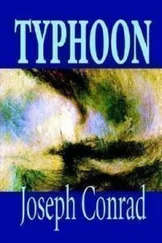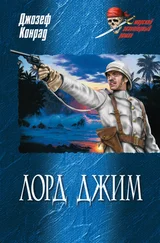К счастью, лежавшая передо мной страница не была исчиркана правками, а без них почерк у отца был предельно разборчив. Когда я дочитал, он кивнул, и я бросился во двор, радуясь, что удалось избежать выговора за столь дерзновенный порыв. С тех пор я все пытаюсь отыскать причину такой снисходительности и полагаю, что в представлении отца я, сам того не зная, заслужил некоторую свободу в отношении его письменного стола. Не прошло и месяца, а может, и недели, как я прочел отцу всю корректуру его перевода «Тружеников моря» Виктора Гюго. Отец остался доволен. Это, вероятно, был мой первый шаг на пути к признанию, а также первое знакомство с темой моря в литературе.
Если я и не помню, когда и при каких обстоятельствах научился читать, то забыть, как меня учили искусству декламации, я смогу едва ли. Сам великолепный чтец, папа был чрезвычайно требовательным наставником. Не без гордости могу заключить, что ту страницу из «Двух веронцев» я, видимо, прочел довольно сносно, хотя мне и было всего восемь лет. В следующий раз я встретил тех «Веронцев» в пятипенсовом однотомнике драматических произведений Уильяма Шекспира. Я читал его урывками в Фалмуте под шумный аккомпанемент колотушек, которыми конопатчики в сухом доке загоняли пеньку в палубные швы. Судно дало течь и еле дошло до порта, а команда после месяца изнурительной борьбы со штормами в Северной Атлантике отказывалась выходить на вахту. Книги неразрывно связаны с нашей жизнью, и Шекспир у меня ассоциируется с первым годом семейного траура, последним годом, который я провел вместе с отцом в изгнании – он отправил меня к дяде в Польшу, как только смог собраться с духом и отпустить меня, – а еще с годом тяжелых штормов, годом, когда я едва не погиб в море: сперва от воды, потом от огня.
Это все я помню, а вот что я читал накануне первого дня моей писательской жизни, забыл. Я лишь смутно догадываюсь, что это мог быть один из политических романов Троллопа. И еще я помню, каким был тот день. То был осенний день с перламутровым полупрозрачным воздухом, просвечивающий через вуаль тумана пятнами солнечного света и красными отблесками с окон и крыш. Деревья же на площади, совершенно нагие, были будто нарисованы тушью на листе папиросной бумаги. Это был один из тех лондонских дней, что полны таинственного очарования и пленительной мягкости. Из-за близости реки Бессборо Гарденс часто можно было наблюдать этот эффект перламутровой дымки.
Но почему я запомнил его именно в тот день? Потому разве только, что я долго стоял, глядя в окно, когда хозяйская дочь уже унесла поднос грязных чашек и блюдец. Я слышал, как она поставила его в коридоре и закрыла, наконец, дверь; а я все курил и не оборачивался. Совершенно очевидно, что я ничуть не торопился решительно шагнуть навстречу писательству, если вообще эту первую попытку можно назвать решительным шагом. Все мое существо было глубоко погружено в праздность моряка на берегу, вдали от нескончаемых трудов и непрекращающейся вахты. В умении полностью отдаться праздности никто не сможет соперничать с моряком на суше, когда на него находит состояние абсолютной, испитой до дна безответственности. Тогда я вообще ни о чем не думал, впрочем, спустя столько лет это воспоминание вполне может оказаться ложным. Одно я помню наверняка: у меня и в мыслях не было писать книгу, но возможно и даже весьма вероятно, что я размышлял о ее герое.
Впервые я увидел Олмейера года за четыре до этого, с мостика парохода, пришвартованного к шаткому причалу примерно в сорока милях вверх по течению одной из рек на Борнео. Рассвет едва забрезжил, и в воздухе стояла легкая пелена – перламутровая дымка, такая же как в Бессборо Гарденс, – только без огненных всполохов на крышах и печных трубах от красного лондонского солнца, – которая обещала перерасти в густой туман. В пределах видимости вся река замерла, двигалась только маленькая долбленая лодка. Я вышел, позевывая, из каюты. Серанг [8] Капитан из туземцев Малайского архипелага.
и его матросы перебирали грузовые цепи и проверяли лебедки на нижней палубе; их голоса звучали приглушенно, движения казались заторможенными. Тропический рассвет выдался зябким. Старшина малаец, который поднялся на мостик взять что-то из рундука, поеживался от холода. Джунгли вверх и вниз по течению, как и на том берегу, почернели от сырости; c оснастки туго натянутого палубного тента сочилась влага. И вот тогда, судорожно зевая, я заприметил Олмейера. Он шел по выжженной траве, размытая фигура на фоне размытого пятна дома – невысокой хижины из бамбука, циновок и пальмовых листьев под крутой соломенной крышей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу