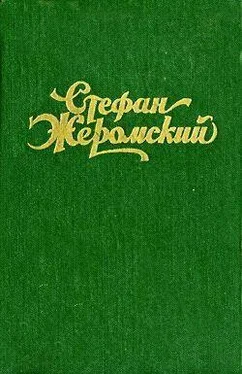Он стал искать примет более ясных и нашел их на истоптанной земле… Черные влажные комья ее были так обильно пропитаны кровью, что он поверил. Исчезла последняя мечта. Последнюю грезу, которая виделась ему наяву, последнюю надежду словно топор подрубил. Сердце снова заколотилось в груди, словно живое существо, не часть человека, а как бы самобытная сила, как бы другая, необычайная власть. Оно делало в груди свое нежданное и страшное дело, как могильщик, засыпающий могилу самого дорогого тебе существа. Он стоял, побледневший, уставившись в землю глазами, весь обливаясь потом, и ноги у него подкашивались. Он слушал. Ему чудилось, будто он стоит перед судом, будто ему читают приговор. Он слышал не слова, а ужасный смысл приговора. Теперь только понял он, почему все это случилось. Теперь только знал он, что было с ним, что есть и что будет. Как же обманывался он, когда думал иначе! Но голос прозвучал.
Кругом слышен был только шум потока, когда он стремительно несся по камням, и плавный его напев, когда он струился по сырой еловой хвое. Стоя без сил, словно на чужих ногах, Рафал недоумевал и удивлялся, как это в жилах его не течет уже здоровая человеческая кровь, а сверкают гибкие языки пламени и брызжут искры, а в черепе пылает пожар, и огонь, бушуя, пожирает мозг. Руки его судорожно сжали орудия смерти, и, весь в слезах, с пылающей головой, цепенея от ужаса, он погрузился в какие-то расчеты, предался каким-то спасительным мечтам…
Он пошел направо, потом пошел налево, чтобы дознаться о самой горькой правде. А когда он вернулся на то же место, то повалился на землю, припал к ней головой, приник губами, всем своим сердцем, сердцем, которое самовластно блуждало теперь по беспредельной пустыне несчастья, по стране тревоги, в предрассветном сумраке нарождающегося нового дня, страшного дня неизвестности.
Надвигался уже вечер, когда он встал и с трезвостью другого человека, того, кто, казалось, давно, сотни лет назад, оставил его оболочку, стал искать могилу Гелены, ее тело, следы убийц. По временам в эту чуждую трезвость вплеталась нелепая жажда мести, точно желание развлечься у скучающего человека. Тогда он все ускорял шаг, пока не начинал смеяться над своей поступью, над своей повисшей рукой, неспособной извлечь кинжал из-за пояса, поднять дубинку. Он легко нашел следы разбойников на траве, хотя в течение знойного дня она уже высохла и поднялась. Следы шли вверх по долине и потоку. Тут и там он находил места, где разбойники клали тело убитой на землю. На камнях и траве он замечал запекшуюся кровь. Однако в одном месте следы поднялись на каменную скалу и почти пропали, лишь кое-где чернел еще на сером камне комок сырой земли, занесенной на подошве постолов, растертой, но еще не высохшей. Еще один раз он нашел большую каплю крови. Потом все исчезло. Он шел вперед и возвращался назад, снова шел вперед и снова возвращался. Он искал места, где бандиты свернули с тропинки, но не мог уже его найти.
Он очень испугался, увидев, как внезапно надвинулся мрак в горах. Он бросился бегом вверх по скале, все быстрей и быстрей, словно по пятам преследуя убегающих. В изумлении и страхе остановился он вдруг на берегу «Изменчивого» озера. Чужой голос, жестокий голос, словно голос окружающих скал, сказал ему, что это в воды озера бросили они тело убитой, привязав к шее, к рукам и ногам прибрежные камни, огромные, как мельничные жернова. Он хотел найти подтверждение этого в примятых камышах, аире и тростнике, во взмученной воде, но надвигалась уже ночь с утеса, темная ночь.
Какой страшной показалась ему эта ночь, быстрой стопою сбегавшая с горных вершин. Ветерок, дувший в долинах, – свежее, прохладное дыхание, обвевавшее мир не сильнее, чем веер из слоновой кости, обрызганный ароматом фиалок, – был уже для него не ветром, а живым разбойником, который подкрадывается, чтобы нанести предательский удар в сердце. Но не проходило и минуты, как ветерок преображался, претворялся в ключ мудрости, под плеск которого дела минувшие представлялись с ослепительной ясностью, как части целого, как фрагменты и крупицы великого и самовластного сущего. Воды озера тихо сияли в последних отблесках зари. По временам пробегала легкая, только что родившаяся волна и, колыхнув стройный стебель тростника, запутывалась в камышах и погружалась в сон. Порою раздавался такой тихий всплеск, что ухо едва могло его уловить. И не успевало сердце тревожно забиться, не успевало замереть в ожидании, как этот звук на веки вечные тонул в тишине.
Читать дальше