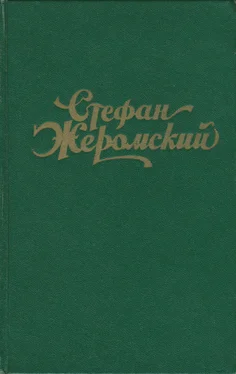Из бальной залы я вышел, пожалуй, позже всех… Я выпил лишнего во время разнообразных фигур белых мазурок [1] «Белыми мазурками» назывались те, которые танцевались к концу бала, на рассвете.
, много танцевал и слишком долго смотрел в глаза панны Ядвиги, — так что пустой, холодный коридор, где я пытался в груде шуб отыскать свой известный всему литературному миру плащ — алжирку, то сужался у меня в глазах, то снова расширялся, а то и вовсе проваливался как сквозь землю вместе с шубами, вешалками и мальчишкой — буфетчиком, помогавшим мне сохранить непоколебленным достоинство литератора usque ad finem [2] Здесь — до победного конца (лат.).
.
— А ну, отведи меня, хлопец, в какую‑нибудь комнату, мне надо…
— В комнату? Тут все занято. Барыня сказала, что вы будете спать у «Репы», в винокурне.
— У «Репы»! — воскликнул я с внезапным энтузиазмом. — В винокурне? Это что за «Репа» в винокурне? Ты что, смеешься?
— Не — е. Барыня сказала… у «Репы», у господина кассира, у Репковского… Вот я и говорю…
— Eh bien… [3] Ну хорошо (франц.).
к «Репе»… кассиру, господину Реп- ковскому… на винокурню…
Я завернулся в плащ, надел со всем старанием калоши и отправился вслед за мальчишкой.
На дворе было еще темно, едва начинал брезжить зимний рассвет. Дождь со снегом бил мне в лицо, брызги грязи из‑под сваливавшихся калош долетали чуть не до воротника известной всему литературному миру алжирки; небо, к которому я с невольным вздохом неоднократно обращал взор, казалось мне пустой, бесформенной бездной, в глубине которой перекатывались, вздымались и опадали, медленно проплывая, тяжелые бурые клубы тумана. Как крышка гроба, нависло оно над землей, опираясь на край поля, где из‑под снега выглядывали черные гребни пашни. Обнаженные березы и акации вокруг двора, как бы набухшие от дождя, метались в порывах вихря и хлестали друг друга верхушками; сухие стволы их неподвижно торчали в каскадах крупных черных капель дождя. От усадебного двора по направлению к винокурне тянулся ряд ухабов и разливались океаны грязи — все это вместе взятое называлось дорогой. Правда, следовать этим рейсом приходилось только картошке в винокурню. Вот и теперь по дороге тащилось несколько телег с ящиками картофеля. Жалкие клячи брели, погружаясь по брюхо в воду; большие комья грязи приставали к колесам и отскакивали от них, падая на сапоги и сермяги возчиков, сопровождавших обоз с выражением беспримерного стоицизма на не бритых уже, вероятно, недели две лицах.
— Вона, винокурня‑то, — просвещал меня мой проводник, показывая большое двухэтажное строение.
Я пересек океан грязи, относительно мало промочив ноги, и очутился перед винокурней. Там стояло несколько подвод. Здоровенная девка, с обмотанной несколькими платками головой, в больших сапогах небывалой формы, словно уцелевших от времен свайных построек, с полными ведрами воды чуть было не сбила меня с ног. Какой‑то еврейчик дружески мне поклонился…
— Сюда, наверх, — указал дорогу маленький слуга.
Мы поднялись по прогнившей, покрытой толстым слоем грязи деревянной лестнице на второй этаж, миновали коридорчик, ступеньки, снова коридорчик. Наконец я оказался перед небольшой дверью. Парнишка постучал.
— Кто и зачем? — спросили изнутри.
— Из усадьбы… — пропищал мальчик, таинственно улыбаясь.
— Входи…
Мальчуган открыл дверь и кивнул мне ободряюще. Я остановился на пороге какой‑то темной, похожей на нишу норы. Помещение это освещалось запыленным, но все же пропускавшим немного света окном, у которого стоял, повернувшись спиной к двери, низкий, сутулый человечек и развешивал на аптечных весах какой‑то белый порошок.
— Чего тебе, спрашиваю? — не оборачиваясь, бросил он сердито.
— Барыня сказала, что этот барин тут переспит…
Старик взглянул на меня через плечо и, так и ке обернувшись, продолжал развешивать свои медикаменты. Наступила минута загадочного молчания…
— Черт бы тебя побрал с твоим спаньем… Где? Как? — воскликнул он неожиданно.
— В усадьбе нету места… барыня говорит…
— Прошу покорнейше извинить меня, почтеннейший, что осмеливаюсь… — сладко запел я.
— Романсы романсами, но где же тут спать, милостивый государь? Где? Сами посудите!
Как раз над этим вопросом я и ломал голову с момента вторжения в комнатушку. Правда, там стояла насильственно втиснутая между стен железная кровать, но она столь роковым образом прогнулась посредине, что спавший на ней должен был уподобиться греческой букве ипсилону. На кровати лежал тюфяк, застланный одеялом, одним из тех, какими в Варшаве господа извозчики прикрывают ноги в ненастную погоду. На тюфяке, на том месте, где мы, цивилизованные люди, привыкли класть и видеть подушку, лежал какой‑то узел, раз и навсегда зашитый в старую наволочку.
Читать дальше