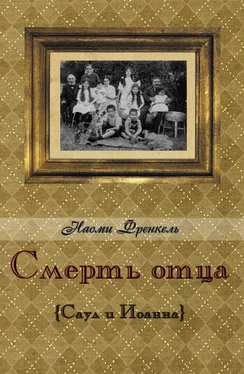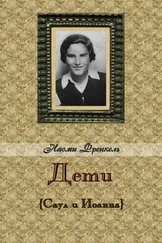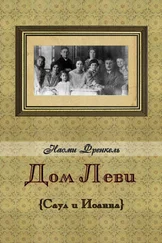Иоанна поднимает голову, и испуганно смотрит на братьев и сестер. Она не поедет ни в какое знаменитое учебное заведение, ни в какую Швейцарию или Англию! Сквозь слезы на глазах она видит доброе лицо той женщины. Никогда она ее не видела, но воображение дало ей облик и добрые глаза, большие, как в сказках. Иоанна пойдет к ней, и та отправит ее в страну Израиля.
– Филипп, – говорит Гейнц, – мы уважаем последнее желание отца, но детей мы не отпустим никуда. Здесь они вырастут, здесь получат всю любовь и хорошее образование, о котором просил отец. Нам не нужны особые средства, чтобы их вырастить и воспитать. Фабрика – наш прочный залог. И я хочу сказать всем вам, – обращается Гейнц к братьям и сестрам, сидящим на скамеечках, немного повысив голос, – я хочу, чтобы все мы обещали самим себе: хранить наш дом. Каждый построит свою жизнь по своему желанию и усмотрению, но здесь – наш большой и родной дом. Каждый из нас найдет себе здесь свое место, и никто не построит свою жизнь лучше, чем в этом доме.
– Так и будет, Филипп, – говорит Эдит, – дети не оставят дом. Мы будем для них отец и мать. Не будут они сиротами на чужбине.
Никто не услышал вздох облегчения Иоанны, которая смахнула слезы, но все услышали вздох облегчения Фердинанда и решительный стук чайника, который Фрида поставила на столик.
– Как это могло прийти в голову кому-то, увезти детей отсюда, – говорит Фрида, и угрожающие нотки слышны в ее голосе.
Дед, который стоял у окна и до сих пор не принимал участия в разговоре, выходит на середину комнаты, оглядывает всех сверху вниз, сидящих на скамеечках, и говорит:
– Так и будет! Жизнь продолжается здесь, в этом доме, ничего не изменилось!
Долгое молчание подчеркнуло эту фразу деда. Иоанна снова опустила голову. Гейнц закурил первую в этот день сигарету.
Дед даже взял чашку чая из рук Фриды, сделал глоток и вернул чашку на стол.
– Отец не верил в нас, – негромко говорит Эдит, и голос ее тяжел и печален.
– Ты ошибаешься, Эдит, – отвечает ей Филипп, – отец ваш был полон любви и веры в вас. Еще я хочу сказать, что он просил передать вам, чтобы на его памятнике была начертана одна строка: «Годы, полные веры, дни, полные любви».
Все согнулись на скамеечках, обняли свои колени руками, опустили головы, и медленно начинается негромкий разговор.
– Мой брат, – шепчет Альфред, – был большим идеалистом, – протирает очки, и глаза его сужаются в щелки, вот-вот, закроются.
– Он был джентльменом, – позволяет себе Фердинанд выразить свое мнение, – он был единственным джентльменом, которого я встретил в жизни.
Иоанна хочет сказать, что отец был добрым, по-настоящему и во всех отношениях добрым. Облик отца встает в ее душе четко и ясно, и два его темных строгих глаза, как два хранителя добра, и все плохое сжималось и исчезало от взгляда отца. Иоанна очень хочет сказать это, но молчит. Боится, что ее выведут из комнаты, а она сейчас не может остаться одной в своей комнате. И это несмотря на то, что в соседней комнате Бумбы спит тетя Регина и громко храпит. Иоанна не может быть одна в эту ночь, и она надеется, что Эдит возьмет ее к себе в постель.
– Отец, – говорит Инга, – был одновременно и строг и добр.
– Я могла шататься по улицам, – добавляет Руфь, – но всегда знала, что есть, куда вернуться. Домой. И это всегда было возвращение к отцу.
– Да, – говорит Эдит, и ее всегда спокойное и равнодушное лицо Мадонны, сейчас неспокойно, – мы могли вращаться в чуждых нам мирах. Но возвращение домой всегда был возвращением в мир отца, мир чистый, идеальный, основанный на строгих принципах. Хотели мы или не хотели, но возвращаясь сюда, в комнату отца, мы всегда знали, что строгий его мир лучше нашего, неустойчивого, и всегда душа наша стремилась к нему, даже когда мы сопротивлялись его нравоучениям. Мы знали всегда: пока есть отец, есть куда вернуться.
– Он был таким, каким должен быть настоящий человек, – добавляет доктор Гейзе.
Священник Фридрих Лихт молчит. «Тринадцать миллионов немцев проголосовали за Гитлера. Хорошо, что эта весть не дошла до упокоившегося, да будет память его благословенна». Лицо в шрамах священника несчастно. Он безмолвно уставился на ковер.
– Я всегда просил его позировать, – говорит Шпац из Нюрнберга, – многие дни я бегал за ним с этой просьбой, и все же опоздал. Всегда у меня было ощущение, что облик его мимолетен и не вернется в этот мир. Я был неспокоен с того момента, как познакомился с доктором Леви. Всегда я чувствовал долг, который был на меня возложен – запечатлеть его образ для себя и для всех.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу