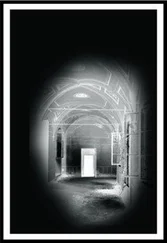На исходе августа я рыбачил на Березине. Днем на голубом, приподнятом над комариным лозняком горизонте иногда были видны белые полоски крыш какой-то деревушки, и тогда я вспомнил, что в трех километрах — жилье. Утром или вечером, когда тишина была особенно звонкой, сюда долетали далекие петушьи крики и, кажется, скрип колодезного журавля.
Изредка в излучину заглядывал спиннингист, почти на ходу делал несколько бросков, шел дальше. Да пробегали время от времени вверх или вниз по реке моторные лодки, и тогда било в берег высокой волной. А еще вскрикивали на лугу коростели, тихо крякали в камышах утки.
Больше ничто не тревожило моей излучины, и после городских шумов это было приятно.
Я ловил окуней, ельцов, но больше подлещиков, бравших и на червя, и на хлеб, часто оставлял в водорослях крючки и, привязывая новый, мурлыкал себе под нос какую-нибудь песенку, потом шел к палатке, разводил костер, варил уху, кипятил чай, слушал тишину.
Однажды, когда я чаевничал у костра, что-то незнакомое вторглось в мой временный мир тишины.
Откуда-то из-за спины послышался шелестящий шум, все приближаясь, восходил как бы вверх, к звездам, усиливался, снова затихал, будто снижаясь.
«Что бы это могло быть?» — подумал я, всматриваясь в темную синь неба, по ничего не заметил.
Через несколько минут все повторилось. На этот раз, едва заслышав чуть пробившийся шелестящий шум, повернул на него голову, стал глядеть в небо пристальнее. И тогда различил в нем темное, быстро плывущее облако.
Это были скворцы.
Ни голоса, ни звука, только шум тысяч крыльев, слившихся в один таинственный шелест.
И сразу вспомнил про осень…
Наверное, это был их прощальный полет над материнской землей.
Поплавок был уже чуть виден на сине-черной воде, и я, воткнув удочку в берег, стал смотреть на тающий закат.
Все вокруг выглядело устало-сонным, только уголок заводи напротив зари заметно розовел. Потом и он начал темнеть, затем зазеленел, стал голубоватым…
Полоска не то зеленой, не то голубой воды совсем сузилась и вдруг показалась ярко-белой.
Так длилось несколько мгновений.
И — все погасло.
Это и было последнее мгновение дня.

Дождь давно не касался земли. Трава шуршала как-то по-осеннему, от муравьиных гор тянуло пролитым скипидаром.
Душно было в лесу, как в бане.
Я обшарил несколько перелесков, колкой стерней перебрался еще в один лесок, шел то осинником, то березняком, нырял в их паутинные закоулки и уже было отчаялся найти хоть десяток грибов: все было исхожено, истоптано, но корешки срезанных боровиков казались свежими, и это заставляло идти дальше.
Опять я забирался на еловые косогоры, спускался в сосновые овраги, в чащу лещины.
Кое-где встречались измученные жарой сыроежки, желтели вездесущие валуи.
И больше ничего.
Совсем отчаявшись найти путный гриб, свернул в негустой сосняк с березой, прилег на мох.
Сделав несколько пометок в блокноте, поднял глаза: в трех шагах от меня желтел боровик, чуть подальше — подберезовик. Я даже глаза протер: не показалось ли?
Но самым удивительным было вот что: собрав эти грибы, я тут же заметил крохотный подосиновик, в шаге от себя, рядом с березкой.
Я встал и посмотрел на гриб сверху, под тем углом, под которым смотрели на него шаставшие здесь люди. И он исчез из глаз.
За каких-нибудь полчаса я набрал на небольшом пятачке целое ведерко хороших грибов. А рядом аукались с пустыми корзинками грибники.
Когда я вышел из леска, встречный мужчина, заглянув в мое ведерко, удивился:
— Где это вы?
— А вон там, — показал я на мелколесье.
Он не поверил, побрел в другую сторону.
Я шел и думал: вот что значит угол зрения.
И в жизни так. Многое зависит от того, как ты на что-либо посмотришь, под каким именно углом.
Пожалуй, все краски перебрали для своих шляпок сыроежки, но нет-нет да и встретишь модницу: так себя разукрасит — диву даешься.
На этот раз увидел одну в нежно-зеленой, с фиолетовым и желтым по краям, шляпке. Стоял, любовался: где же человеку смешать на палитре такую красоту!
А она сумела.
Читать дальше