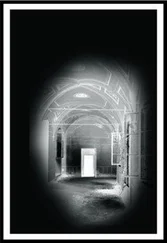И уж после этого не усидит в ельнике, обязательно выбежит на дорогу: полюбуйтесь, ай да я!

Сколько разных грибов в лесу — не счесть, и все же, кажется, самый приметный среди них — мухомор. Имя только обидное.
Все: — Мухомор, мухомор! — и норовят пнуть ногой.
Куда ни посмотришь — сбитые с ног мухоморы. И как-то неловко за людей: не гриб убили — лесную красоту.
Боровик неуклюж.
Подберезовик чуть состарится и смотреть не на что: раскиснет, червь на черве.
Скользкому масленку, видимо, самого себя стыдно, прячется в траву.
Разве что подосиновик может потягаться в молодости с мухомором. А он — всегда строен, молод, красив. Никогда не видел, чтоб одряхлел мухомор. И как исчезает — не примечал.
Гордый, удивительный гриб, утешение для глаз, ищет его зверь, когда одолеет хворь, всяк грибник знает — где мухомор, там и боровик ищи.
И потом: мухомор, какая хозяйка из лесу его не прихватит.
А мы:
— Тоже мне гриб! Мухомор.

Хотите увидеть маленькое чудо? Тогда идите в летний лес с восходом солнца.
Оно еще как луна: желтоватое, прохладное, будто только его начали калить на огне. Вокруг — розоватый туман. Даже близкий лес смотрится, как сквозь матовое стекло.
Тихо. Тени длинные, сочные, покойные.
Можно не заметить в этот час боровика, нечаянно наступить на сыроежку, не увидеть что-либо другое, но нельзя пройти мимо паутины.
Одна смахивает на кросна, из другой пауки умудрились смастерить сети, третья — что-то вроде птичьих клеток, то тут, то там расставлены скифские шатры, натянуты между деревьями гамаки…
И все это усеяно мириадами росинок-бус.
И ты идешь среди этой хрупкой красоты, обходишь каждый домик, чтобы не задеть.
Но вот уже солнце пышет жаром, паутина гаснет, исчезает.
Кончается паутинный час.

Как в детстве, я разулся, взял удочку, босиком пошел к реке. Солнце только вставало, и на траве белел иней. Но стоило мне сделать несколько шагов, и я почувствовал, что пятки начало жечь, будто снегом. Тогда я встал на цыпочки, потом на пятки, хотел было повернуть обратно, надеть кеды, но нежелание потерять несколько минут раннего клева было сильнее, и я побежал к реке.
Вид воды, казалось, ледяной, заставил остановиться. Но я все же сделал решительный шаг.
Это была блаженная минута: по сравнению с холодом земли, вода показалась подогретой: остывая, земля отдала свое тепло речной воде.
И вспомнилось, как прибегал, бывало, вечером домой, как мать тут же наливала в таз теплой воды, а я опускал в нее холодные, все в цыпках, ноги.
Не случайно же мы и землю называем матерью.

Мы удили карасей: я, Чесночок да еще двое пареньков. Рыба бралась хорошо, но когда стала наползать гроза, ребята убежали.
Остался только Чесночок.
Я видел: страшновато ему. Как все тучи в июне, и эта была темно-лиловой, с громом. Чесночок косился на меня, на тучу, видимо, ждал, что я уйду, тогда он тоже побежит домой. Но караси стали клевать наперебой. Даже с берега видно было, как они красно сверкали чешуей, набрасываясь на крошки хлеба.
И тут хлынул дождь: теплый, сильный, забарабанил по лопухам. Чесночок съежился, поднял воротник. Теперь его белая голова и впрямь смахивала на чеснок. Оглядываясь, я видел, как спина его становилась все темнее, а по лицу бежала вода.
— Здорово, а? — сказал я, чтобы подбодрить Чесночка.
— Ага! — улыбнулся он, глядя на небо.
Чувствовалось, что дождь будет недолгим, и, действительно, он вскоре перестал. Напоследок туча сыпанула пригоршню особенно крупных капель, тут же улыбнулось солнце.
Улыбнулся и Чесночок. Спина его стала парить.
— Здорово? — спросил он у меня.
— Ага! — сказал я. — Здорово!
Лицо его светилось гордостью: он не испугался тучи, не убежал.
И я был рад за него, видел, что ему уже было жаль тех, кто переждал грозу в четырех стенах, кто не пережил этих чуточку страшных, но необычных минут.
Читать дальше