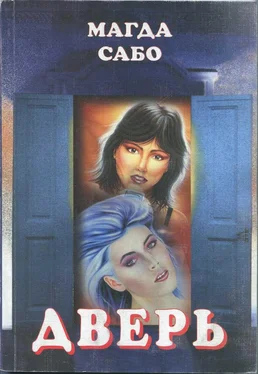Ага, второй выстрел. Кость изо рта уже вывалилась, но собака не добита. Последовавшее и правда было самым важным из всего услышанного.
— Не надо сразу, без подготовки перевозить ее в совершенно непривычную для нее, заново обставленную, свежевыкрашенную комнату, а оттуда — поскольку одну оставить нельзя — еще куда-то. Слишком сильное переживание для нее. Постарайтесь еще здесь все ей рассказать, где и укол можно сделать, а не там, где ни мебели прежней, ни кошек. Про топор, про дезинфекцию, про все. Здесь ей легче будет узнать. Я уже спрашивал соседок с вашей улицы. По их словам, к вам она особенное расположение питает, вот и возьмитесь сами сообщить. В конце концов с вас все началось. Кстати сказать, жизнью она именно вам обязана. Двух суток ведь не протянула бы, не заставь вы ее дверь открыть!
Действительно обязана: этой вот жизнью. Без кошек, которые скрашивали ее одиночество — все сдохли или поразбежались; без дорогих сердцу окружающих предметов — прахом пошли, сгорели дотла. И великодушной готовности жильцов исполнять ее работу, конечно, надолго не хватит. В дом же для престарелых Эмеренц ни за что не пойдет, согласится только обратно к себе, но куда? Нет там ничего. А у меня жить ей тоже не улыбается. Ей нужно собственное жилье. Да и как совместить наше существование с присутствием требующей ухода лежачей больной? И кто меня за язык тянул… Разве справлюсь я: и судно, и стирка, и готовка, и пролежни; не каждый же день сестра будет приходить. А если мне понадобится уйти? На мужа ее оставить? Что он будет делать с ней?.. И вообще: разве она согласится? С порога отметет мое предложение. Но тогда к кому же? Ни у кого просто места нет. К сыну брата Йожи нельзя; подполковник только что вторично женился… Только к нам, больше не к кому.
Спеша переговорить с мужем, я даже не заглянула к Эмеренц и по дороге все ломала голову: что делать, если она откажется. На нашей улице было непривычное оживление: снуют какие-то люди, у дома Эмеренц — грузовик. Я подошла ближе. Оказалось, красят ее открытый холл. На место проломленной двери, отодрав доски, ставили новую. Кухню уже отремонтировали, и женщины отмывали пол. Работа кипела; народ все незнакомый, видимо, бригада арестантов от подполковника. Я поднялась к себе позвонить ему. Подполковник никак не мог взять в толк, что там у меня опять. Дверь уже на месте, стены покрашены, полы моются, погода теплая, сохнет быстро; через пару дней и мебель привезут. В чем дело, почему я так отчаиваюсь?
И правда, почему? Как определить в конце концов? Я рассказала о предательстве Шуту; он был не в восторге, но тут же заявил: закон на стороне Эмеренц, выставить ее из квартиры или заставить переехать никто не имеет права. Ее будущая нетрудоспособность — это ведь всего-навсего предположение. По положению о больничных листах два года у нее, во всяком случае, есть, а за это время многое может измениться; глядишь, и поправится. Пока же пускай продолжают всё делать за нее, а насчет патронажа он проследит. Так что все, в сущности, в порядке и совершенно нечего убиваться. Из критического положения мы ее вывели, а болеть — что же, болеть никому не закажешь. Кстати, у него со своей стороны просьба ко мне: довести начатое до конца, скрасить дурную новость хорошей. Сказать Эмеренц — поскольку больше нет нужды в спасительном обмане, в котором так трогательно участвовала вся улица и я поддержала своим авторитетом — сказать, что все восстановлено, старая, вернее, новая, то есть обновленная, словом, ее квартира готова и ждет ее.
И он тоже не понял ничего. Да, наверное, и не мог: баланс подводился как бы в неконвертируемой валюте. То, что в словаре Эмеренц означало: грязь, скандал, позор, балаган, у подполковника называлось: закон, общественный порядок, необходимая мера, солидарность. Предмет вроде один, но язык разный. И я попросила, пусть хотя бы сам за меня сообщит, что на самом деле произошло; меня ведь при этом не было, я на телевидение уехала, он же знает.
— Ну что ж, это меня не пугает, — ответил он. — Эмеренц — женщина умная, вы скорее проиграете, чем выиграете в ее мнении оттого, что не решаетесь правду сказать. Ведь не на какую-то жалкую участь вы ее обрекаете. Пусть не самый счастливый конец, но все-таки благополучный. Ладно, скажу сегодня же. А с Шуту ни в какие разговоры не пускайтесь, с ней и здороваться не стоит после этого. И про нее скажу, про ее предательство. Ничего, это лучше всякого лекарства подействует: возмущение — оно сразу на ноги поставит. Ох, и влетит же ей от Эмеренц, посмей она заявиться к ней! Ладно, сделаю все, хотя, признаться, вы меня здорово разочаровали. Вдруг под самый конец самообладание потерять! Хорошо, хоть до сих пор держались молодцом.
Читать дальше