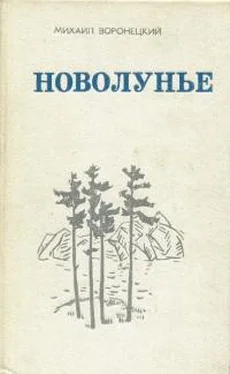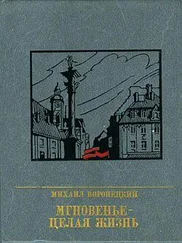— Поздно, — вздыхает Степанида.
— Э! — горячился дед. — Это никогда не поздно. Я в ваши годы еще не знал, к кому свататься. А смотри, четырнадцать душ намастерил — успел. Говорю тебе, что это никогда не поздно.
К вечеру приплыла тетка Анна. Осталась ночевать. Достала из-за пазухи письмо от бабушки Дарьи, кликнула деда и, усевшись на крыльце, стала читать. Я послушал немного и ушел в деревню: там, на верхнем краю, уже пиликали на гармошке. Подошел, постоял возле парней и девчат и в сумерках задами пробрался на свой огород. Незаметно через подсолнухи пролез под навес, завернулся в полушубок и стал прислушиваться к звукам наплывающей ночи.
Степанида и тетка Анна все еще сидели на крыльце и обсуждали предстоящий приезд в гости бабушки Дарьи с невесткой Валькой.
— Не фартовая она у нас.
— Кто?
— Тетка Дашка, — говорила тетка Анна глуховато. — Не фартит, и что будешь делать?..
— Чем ей плохо? — спрашивала Степанида. — Живет при сыне. Какой ни есть, а сын. Да и невестка вроде ничего бабенка.
— Мужикам черта ли. Того же Егорку взять. Рад-радешенек: баба есть, а понятья нет, что рожать не будет. Опять все старухе сухота — внука надо. Я ей возьми да напиши: Физка наша лечит... Вот они и надумали махнуть сюда.
Бабы замолчали. Я думал, что они ушли. Но стука дверей не было слышно. А тут тетка Анна снова заговорила.
— Тебе бы тоже не грех показаться. Родного дитя надо иметь.
— Зачем мне... У меня Минька заместо родного. Да вот маета мне: что-то какой-то другой он нонче. Иным часом глянет так, аж под сердцем засосет.
— А ты-то на что надею держишь? Неродной, он и есть неродной. Пока мал — ластится, ласки ищет. А подрастет — и думать перестанет. Недаром говорится: сколько волка ни корми — все в лес смотрит.
— Нет, он не такой. Тут что-то не то. А что — никак ума не приложу.
Утром мы с теткой Анной поплыли на ту сторону Енисея. Высадил ее в полверсте от заимки Решетниковой, где она жила, а сам стал спускаться к Черемшаному. Сидел на корме, положив на колени — поперек лодки — весло. В эту пору вода в Енисее низкая и течение такое тихое, что лодку несло почти незаметно. Да и я не спешил. Я вообще никогда не спешил на реке. И совсем не любил Енисей в пору Половодья — в конце мая, когда река, взбухнув от таежных речек, разливается на целый километр в ширину, заливает все острова и косы, порой смывает со своих берегов крайние избушки деревень... Весной, в мае, как рассказывали плотогоны, даже самую малую таежную речку в Саянах никто не пересечет ни вплавь, ни верхом на коне. Вечные снега, покрывающие хребты, наполовину превращаются в воду, и она со страшной силой обрушивается на русла почти задохнувшихся за долгую зиму таежных рек. И чуть живые ручейки и речушки превращаются в яростно ревущие горные реки, и они, стараясь как можно скорей прорваться к Енисею, срывают на своем пути вековые кедры в обхват, с грохотом коверкают скалы. Многие поколения плотогонов окончили свои дни на этих коварных реках со странно звучащими тувинскими и хакасскими названиями: Ус, Кантегир, Чебеж, Джой, Арадан.
Сейчас в Чибурдаихе только отец мой да Ганцев по-прежнему ежегодно вербуются и уезжают в Саяны на лесоразработки. Другие мужики, уцелевшие на войне, один за одним оторвались от древнего ремесла своих отцов, дедов и прадедов и теперь работают в колхозе — кто плотником, кто трактористом, а иные и в начальство выбились: старшие чабаны, бригадиры, механики.
«У всех семьи как семьи, — часто думал я, — одни мы... ни то ни се. И Степаниду тоже винить… Сколько лет одна да одна. Эх! Пошел бы отец в колхоз чабаном жизнь была бы — помирать не надо. И хозяйства можно было бы по меньше держать, и на огороде бы здоровье не гробили. А то на что жить? Отец зарабатывает много, да домой-то одни гостинцы приносит. Деду пора бы на печке лежать и в потолок поплевывать, а он последние силы на коробах гробит. А то, глядишь, и еще бы десяток-другой лет пожил. Одна надежда на Степаниду».
Справа высоко по небу идут Саяны. Белеют вершины хребта Борус, дальше на восток — Танну-Ол, а еще дальше — Улуг-Хем... Я гляжу на них и сперва никак не могу понять, что именно меня тревожит сейчас. Э! Да ведь они еще вчера были совсем другими... Снега сверкали только на острых, как волчьи клыки, гольцах хребта Борус. А сегодня горы сплошь белые — до самой синей полоски опоясавшей их тайги. «Коротко лето в горах! Нелегко сейчас там отцу, — думал я. — Ведь он не из обычных плотогонов, что гоняют плоты по Енисею, затягивая длинные таежные песни. Он из тех, которые гоняют лес на горных реках — от верховьев к устью, — постоянно рискуя жизнью».
Читать дальше