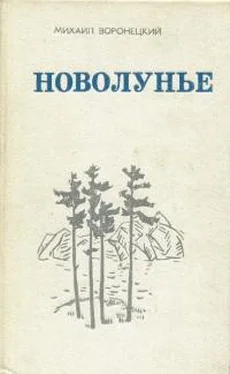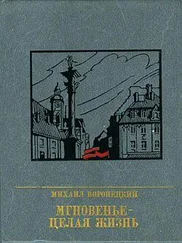Мне было жаль речных сумерек. Заметив, что бабы собираются варить саламату, я потихоньку вышел па улицу. Полдесятка домишек заимки неровно чернели вдоль берега. Из-под берега торчали верхушки тальника. По шуршащей отаве я подошел к обрыву, высмотрел тропинку и спустился к воде. Уселся на мостках. Здесь, в тени обрыва, вода была черной и потому казалась глубокой. Я снял ботинки, спустил ноги в воду, и ступни скользнули по камням. Сразу же к ногам бросились малявки, начали щекотать. Я несколько раз пытался схватить их, но ладонь всякий раз оказывалась пустой.
На том берегу высоко чернели очертания кургана. О нем мне дед однажды рассказал такую историю. Когда-то, когда и деревни еще не было, а на ее месте время от времени появлялось несколько койбальских юрт, на этом кургане хоронили старого койбальского князька Умайбека. И вот когда колода с телом Умайбека должна была опуститься в яму, вдруг увидели сруб обгорелый, много оружия и всяких золотых украшений. И еще скелет древнего человека.
Золото заставило забыть о непохороненном князьке. Стали копать глубже и снова наткнулись на лиственничный обгорелый сруб. Там опять нашли скелет и оружие, но не золотое и не железное, а каменное и медное. Перестали копать. Опустили в яму Умайбека, засыпали доверху землей, перемешавшей следы многих тысячелетий, а наверху торчком поставили огромный, в три человеческих роста, камень. Этот камень и сейчас стоит на кургане, чуть склонившись над обрывом к Енисею. А вокруг много камней помельче — поставлены позднее.
По склонам кургана рядом с торчащими камнями густо разрослись деревянные и железные кресты. Много ихнакопилось тут с тех пор, как койбальские стойбища перемешались с переселенческим народом — русскими, украинцами, татарами, поляками.
Там, у подножия древнего кургана, посерев от ненастья, похилился от ветра крест над могилой бабушки.
Я гляжу на расплывшиеся очертания кургана, и мне очень хочется сейчас туда. На кладбище я старался приходить в потемках, чтобы никто не видел.
Но меня все-таки несколько раз видели здесь бабы и стали говорить в деревне:
— Смотри-ка ты, кровь-то, она дает себя знать. Тоскует.
— И не боится. Месяшно, жутко, а он ходит возле крестов.
— А что ему бояться. Там у него бабушка — заступа. Покойница бойкуша была — от любой нечистой силы оборонит. Ему теперь не страшно — ни в воде не утонет, ни в огне не сгорит. Говорю, там у него — заступа.
— Ми-и-и-ня! — негромко окликнула меня с обрыва Степанида. — Айда ужинать — да спать будем. Утром рано вставать. А там вон, того гляди, заря начнет заниматься. Айда. Саламата готова. Мы с теткой Анной поели.
Голос у нее бессильный, едва борется с одолевающей сонливостью. Не дождавшись, пока я что-нибудь скажу, она уходит. А я поднимаюсь с мостков и лезу на берег. И тоже чувствую, как сильно потянуло в сон, и даже есть не хочется.
— Ешь, ешь, — проговорила тетка Анна.
Но я вылез из-за стола, потянулся, и на гашнике оторвалась пуговица. Я едва успел прихватить штаны, спросил:
— Тетка Анна, где иголка с ниткой?
—Эвон, в простенке возле карточек. В подушечку воткнуты. Только когда пришиваешь на себе, надо в рот взять что-нибудь, рукав или еще что прикуси. А то память пришьешь — и станешь плохо учиться.
— Это неправда, — упрямо сказал я, — разве можно память пришить? Если бы ее можно было пришить, значит, ее можно было бы и видеть.
— Скаженный ребенок. Зачем тебе память видеть? И не твое это дело рассуждать, что правда, что неправда, Маленький.
— И не маленький я совсем. — Мне надоели постоянные теткины разговоры обо мне в глаза и за глаза. А если и рассердится и к бабушкиной родне не возьмет — черт с ней. Съезжу сам, когда вырасту.
— Ты поговори еще у меня. Вот я встану, так узнаешь, чем плюха пахнет. Ишь растет звереныш. Ну вылитый отец-варнак. Тот ведь тоже, бывало, в молодости на боку дыру вертел.
Но теткиных угроз я не боялся, зная, что она ни за что на свете не поднимется сейчас с постели. Вот Степанида бы не рассердилась. Я осторожно глянул поверх стола. Степанида спала. Во сне она неловко заслонила голову локтем согнутой мускулистой руки.
Утром поднялись рано. Перелезли через плетень, сильно осевший в том месте, где к нему тянулась росистая тропинка через поросшие корявым тальником поляны. Сейчас эта тропинка едва намечалась в залитой росою траве. Я давно заметил, что примятая за день трава к утру всегда поднимается, сколько бы ее ни топтали.
Читать дальше