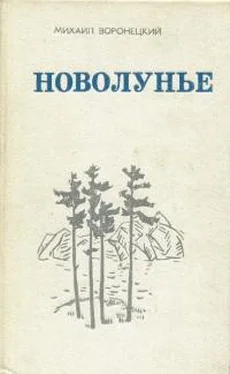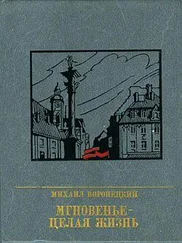— Ври больше, — миролюбиво говорил дед.
— Так говорить нельзя... Ври...
— А ты еще жеребенок, чтобы деда учить.
Тетка Анна к этому времени успела наесться, вздохнув, встала из-за стола и тоже встряла в разговор:
— Что малый, что старый — ума одинаково.
— Так, стало быть, он правду говорит? — виновато спросил дед и, не получив ответа, продолжал уже сам с собой: — А мне не ума... Думаю, поклон надо послать, не забыть. А оно вон что. Умерла, стало быть. Так что же тут диву-то. Оно и время. Я, бывало, когда свататься ездил, Любава соплюхой была. А старуху мою любила. Ты, говорит, узкоглазый, Соню не обижай. Так и говорила.
Растревоженный разговором о родне, дед после обеда вышел на крыльцо, уселся на верхней ступеньке и закурил папироску. По его добродушному лицу, каким оно всегда становилось после хорошей еды, я понял, что деду хочется повспоминать о старине. И я уже хотел было пристроиться рядом. Но тетка Анна была настроена иначе. Она давно знала все, что мог вспомнить дед. С тех пор как ему перевалило на вторую сотню, дед только и знает, что вспоминает. Так говорила тетка Анна. Но я из дедовых рассказов всегда узнавал что-нибудь новое: то какую-то фамилию, то какой-нибудь случай...
Тетка Анна села на завалинке возле крыльца. Раскосые глаза ее на круглом дряблом лице хитровато и довольно щурились. Она поняла наше настроение и заранее наслаждалась возможностью помешать нам.
— Ты, тятя, смотри тут. Хорошенько домовничай. В карты не играй. Обдурят тебя. Теленка утром на прикол сведи. А корову Физка Павлова доить будет. Гусей не прокарауль смотри!
— Гусей Тузик попасет, — сказал я, заступаясь за деда.
— Пусть Тузик, — согласилась тетка Анна.
— А морды?
— Чьи морды?
— Мои. Кто морды смотреть будет?
— Корчаги, скажи.
— Все одно. У нас корчаги, а в Жинаеве их мордами зовут. Кто смотреть будет?
Тетка Анна махнула рукой:
— Ничего им не сделается. Постоят.
— Еще больше рыбы наберется, — сказал я.
— Разевай рот пошире, — рассердился дед. — Никашной выпустит.
— Кто? Кто? Никашной? — боязливо спросил я и отодвинулся от полутемных сеней.
Ну да. Есть домовой, есть лесной, его еще лешим зовут. А еще есть водяной. А в болотах живет никашной. Самая поганая нечистая сила. Протока у нас пересыхает. Водяной оттуда в Енисей перебрался. А никашной уж тут как тут. Я сам видел. Вышел эт-то ночью, стою на берегу, а он, язви его, купается за островом. Ночь-то лунная, далеко видно. Стоит по пояс в воде и моет голову. Фыркает. Увидел меня да как вздохнет, ажно ветром меня обдало. А сам в воду — и только его и видел.
Тетка Анна сказала в сердцах:
— Перестань. На ночь-то глядя болтаешь. Смотри, он и так сам не свой. А нам вечером мимо кладбища идти.
Переправились вечером. А когда шли через поселок, потом через тальник и заросшие поляны, мимо кладбища, стало темно. Обходя кладбище, тетка Анна все вздыхала.
Я представлял себе печальное лицо тетки Анны и удивлялся. Когда муж ее был живой, она его терпеть не могла: за выпивки, за неискоренимую привычку исчезать после получки на неделю. И вдруг — на тебе, затосковала. Значит, я был прав, считая ее мужа хорошим человеком. Был он с ребятишками всегда вежливый, разговаривал серьезно, как со взрослыми.
Тетка Анна и Степанида несли кошели. На мою долю достался туес со сметаной. Я раза два уже чуть не выронил его, цепляясь за корни тополей, темнеющих по обе стороны тропинки. Я шел впереди — так меня поставила тетка Анна — наверное, для того, чтобы удобнее было давать мне подзатыльник, если споткнусь.
— Ми-и-ня! — окликнула меня Степанида. — Не видать еще заимки?
Мне приятно. И я сразу даже не сообразил, что надо ответить. И тут слышу сердитый (видимо, от усталости) голос тетки Анны:
— Оглох ты, что ли? Тебя спрашивают. Неродная, а кормит, поит — уважить надо. Вот погоди, Ганьке расскажу — так он тебя выстелет нагайкой.
Я слышал, как Степанида где-то сзади протестующе вздохнула, но возразить что-нибудь тетке Анне не решалась. «А я назло молчать буду», — думал я. И в самом деле иду молча.
Тетка Анна подождала минуту-другую и ответила Степаниде сама:
— Потерпи, Степанида. Сажон двести осталось.
Степанида была весь день на работе в поле, устала, для нее эта полукилометровая дорога в потемках — мука. Мне ее жалко, и я невольно прибавляю шагу.
Пришли к тетке Анне на усадьбу, она отомкнула замок, открыла дверь. Изба большая, дверь в горницу открыта; в окна, что к Енисею, падал отблеск реки. Здесь, на самом берегу, куда светлей, чем в кустах. Отсвет заката, ушедшего за степной горизонт, по ту сторону реки, стоял высоко в ночном небе, и от этого на берегу все еще гнездились сумерки. Но вот тетка Анна зажгла свет, и окна сразу стали черными.
Читать дальше