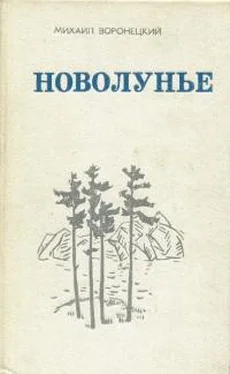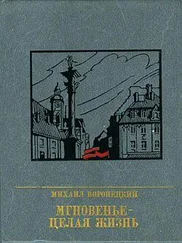Вечером приехал в Чибурдаиху бригадир Емельян Камзалаков. Собрались мужики. Даже больной старшин конюх дядя Лепехин притащился и стоял, опираясь грудью на железную трость. Худое землистое лицо его было повернуто в спину Кольке, который сидел поодаль на бревне. То, что сюда собралось столько взрослых решать его судьбу, сделало его важным, неприступным.
— Коня списать надо, — первым заговорил Филя Гапончик, — парень-то мал еще. По безотцовству пошел мантулить с малолетства. Это тоже понимать надо. Хоть до кого доведись.
— Мели, Емеля, твоя неделя, — немощно заскрипел дядя Лепехин. — Тут колхозное дело решается, а не в шарашкиной артели. Не колхозник — не лезь.
Филя обиделся.
— Не хочешь меня слухать, дядя Лепехин, — сказал он, — не слухай. Тебя, между прочим, никто не звал сюда. Болеешь — и болей себе на здоровье. А сердиться, между прочим, тоже нечего. Я не виноват, что у тебя чахотка и тебе помирать скоро.
— А я не виноват, что у тебя котелок не варит, — спокойно ответил дядя Лепехин, — так что, брат, тоже не ocvди на добром слове. Говорю тебе, что, как не член колхоза, ты молчи, рта раскрывать не смей. Пускай бригадир сперва скажет. А насчет того, что мне помирать пора, так я еще на твоих похоронах частушки спою.
Емельян молчал, оглядывая мужиков, потом спросил:
— Ну дак как? Какое ваше мнение будет? Списать? Либо матери на шею вешать будем?
Мужики заговорили:
— Кому вешать-то? Тебеньчихе?
— У ней в одном кармане вошь на аркане, а в другом — блоха на цепе.
— Списать — чего там!
С собрания я увязался за дядей Павлом. Попросил:
— Дядя Паша, возьми чабанить.
— А в конюхи?
— Не пойду.
— Испугался?
— За меня заступаться некому. Вдруг лошадь утонет, как на водопой погоню...
Дядя Павел помолчал, подумал. Потом стукнул меня по шее, сказал:
— Завтра ни свет ни заря — ко мне на тырло. Пинжак возьми. И ножик. А харчиться со мной станешь.
Чабанить мне нравилось. Отара дяди Павла паслась все лето на горе Февральской.
Люблю я это место. Дядя Павел сюда заглядывает только на ночь — караулить овец от волков. Днем я здесь полный хозяин над отарой и над своими раздумьями.
Отсюда, с Февральской горы, Ойдовский остров похож на огромную остроносую лодку, разрезающую течение реки. Кажется, не имей он такую форму, Енисей в первую же минуту сорвал бы его с места, смял и бросил бы на темно-красные и зеленые утесы Февральской горы, нависшие над Енисеем.
Я бывал и на противоположном острове Черемшаном и оттуда с ужасом смотрел на эти скалы, где бушевали страшные водовороты. Мне иногда казалось, что вот-вот рухнет в эту пучину Февральская гора всеми своими утесами, и Енисей смоет с берегов окрестные села.
Но гора стоит, навевая мрачные раздумья не только на случайных рыбаков, но и на бывалых плотогонов. Вырвавшаяся из узкого горла саянских теснин, еще не успевшая потерять силу великой инерции, река здесь почти под прямым углом бьется в скалы. Шум этот за несколько километров слышит чуткое ухо лоцмана, ведущего десятисоставный плот между островами.
До обеда было еще далеко, когда я заметил скакавшего по увалу всадника. Сердце екнуло. Я вгляделся и вскоре узнал во всаднике Кольку Тебенькова. Подскакал, осадил коня и, вытирая кепкой пот со лба, сказал громко, тревожно:
— Дядя Павел послал... Загоняй отару на тырло и вали домой. Сегодня вся бригада не работает.
— Почему не работает?
— Плот разбило у Большого порога.
— А дядя Павел почему сменять не придет? — спросил я.
— Дядя Павел в тайгу уходит. Сегодня артель набирает.
Неожиданно объявился уехавший было куда-то дядя Лепехин. Куда уехал — никто не знал.
— Помирать уехал, — говорили о нем в деревне. — Как старый орел — не хочет, чтобы видели, как помирать станет.
Лепехин много лет болел туберкулезом. Иногда он до того слабел, что по нескольку месяцев с постели не поднимался. В такие моменты мужики приходили к нему, чтобы спросить, не надо ли домовину и крест заказывать. Лепехин не сердился, а только хитровато посмеивался. Вскоре, однако, поднимался и продолжал жить как ни в чем не бывало.
Дядя Лепехин вошел, постукивая железной тростью. Худой, как прежде, но живости в нем как будто прибавилось.
— О! Екуня-ваня! — весело приветствовал его мой дед, сидя на низенькой скамейке в недоплетенном коробе. — А мы тебя, грешным делом, покойником считали.
— Мне помирать рано, — сказал дядя Лепехин, усаживаясь у печки. — Пока что поскриплю. Работать приехал. Остановился у Тебеньчихи. Завтра в бригаду пойду. Думаю к Кольке помощником определиться. Ну, а ты как, молчун? — обратился он ко мне.
Читать дальше