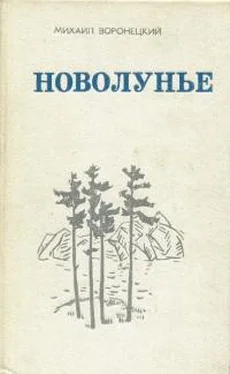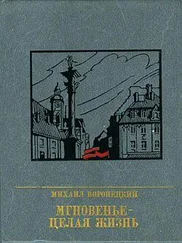— Хоть раз в неделю просушить толком. А то на морозе ноги с пару заходятся.
Весь день я стоял у окна и смотрел на улицу. С крыши соседней избы, чуть виднеющейся из сугроба, прямо под берег (деревня сплошь забита сугробами) на лед протоки скатывались ребятишки, оседлав санки.
Я тоскливо поглядывал на увал, откуда мать с дедом должны были привезти солому. Чем ближе к концу дня, тем сильнее меня охватывало нетерпение. Пожалуй, я не вынес бы этой пытки и вынул бы материны валенки из печи, но на закате мать с дедом приехали. Дед опрокинул в ограде воз соломы, а мать вошла в избу и, раздеваясь, скинула валенки.
— На, ступай, лошадь на конюховскую сведи.
Нечего говорить, как быстро я оделся, вывел из ограды лошадь и, встав в санях на коленки, погнал ее во весь мах по льду. Ребятишки шарахались в стороны, а мой приятель Колька Тебеньков кричал вслед:
— Коня запалишь! Вот я дяде Лепехину скажу!
На конюховской я одним духом распряг коня, свел его к яслям, повесил на плечо хомут и направился в низкую избушку, где жили конюхи. Там темно, накурено. Мужики, сидя на корточках у стен, негромко разговаривали.
— Вешай на третий штырь, — услышал я откуда-то от стены голос дяди Лепехина.
Нашарил рукой деревянный штырь, вбитый в стену, повесил на него хомут и сбрую.
— Ему говорят, на третий, а он повесил на второй. — Я узнал голос Фили Гапончика.
— Со свету-то не видно небось, — огрызнулся я.
— А почему сова в темноте видит?
— Спроси у ней. Я не сова.
В разговор вмешался Емельян Камзалаков, бывший заведующий овцебазой, переведенный в бригадиры.
— Минька! А Минька! Где это ты полушубок украл? Я его третьеводни в Шоболовке на ком-то видел... А ну скидывай, давай сюда, заявлять надо.
Мужики засмеялись, но я уже выскользнул из избушки и побежал к деревне, на шум и визг ребятни. С сугроба только что тронулись санки, набитые девчонками.
— Куча мала! — заорал я и кинулся в санки к девчонкам и полетел с ними под берег. Распахнувшиеся полы полушубка крыльями трепыхались по бокам.
Снизу поднимался Колька Тебеньков, волоча за собой огромные санки. Он поставил их поперек хода наших санок, и мы перевернулись. Я слышал, как какой-то гвоздь с хрустом прошелся по моему полушубку, и мне на потную спину волчицей прыгнул холод. Мне сразу стало не до игры. Прячась за сугробами, я подался домой.
В глубине избы у стола сидел немолодой мужик с хакасским обличьем и разговаривал с дедом, прилегшим на кровати. Мать у кутнего стола резала калачи.
Я столбом стоял у порога, прислонившись спиной к косяку.
— Ишь как обрадовался дяде, — ласково сказала мать. — что язык присох аж. Ну подойди, поздоровайся. Это мой двоюродный брат.
Мужик, улыбаясь, ждал. Вдруг дед проворно вскочил с кровати, схватил меня за руку и повернул к себе спиной. Завопил:
— Ты смотри, что он, варнак, наделал! Новенький полушубок от самого воротника располосовал!
Но я уже был спокоен, понимая, что при госте меня даже за полушубок драть не станут.
Удивительное дело, я ничего не помню интересного из своей школьной жизни. Учился хорошо, легко учился — вот и все. А никаких событий вроде бы и не было. Впрочем, это, может быть, от того, что учеба проходит в основном зимой, когда при наших сорокаградусных морозах носа за дверь лишний раз не высунешь. Другое дело — летом...
Летом, на каникулах, решил я идти в конюхи к Лепехину, а дядя Павел отговаривал.
— Не советую, — ворчал он, — работу надо выбирать серьезно, на всю жизнь. А что конюх? Сегодня он нужен, а завтра понадобится шофер или тракторист.
Я понимал, что прав дядя Павел. В деревню иногда заскакивал колхозный автомобиль, и тракторы уже вытеснили лошадок с полей, но предметом зависти для меня по-прежнему оставался всадник — будь то конюх, объездчик или колхозный бригадир верхом на коне. К тому же и мой приятель Колька Тебеньков, который всего тремя годами старше меня, бросил школу и стал работать помощником старшего конюха.
Днем я рыбачил, ставил корчажки, часами висел над заводями, высматривал под камнем или корягой хвост налима, а к ночи шел на конюховскую. Помогал Кольке спутывать лошадей, чтоб они не разбредались по лугу, а потом рядом с Колькой укладывался на нары. Через окно в головы падал лунный свет, и в открытую дверь (ее оставляли на всю ночь открытой) было видно небо, край деревни и тополиную рощу, облитую луной.
Разговор вели долгий, задушевный, в основном об одном и том же — о девчонках. Колька, лежа на спине, затягивался папироской, мечтательно вздыхал, перед тем как начать разговор. Я тоже лежал на спине.
Читать дальше