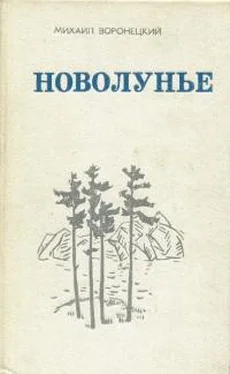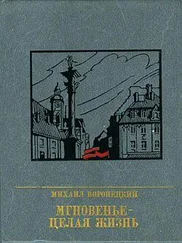Тут Маришка, прогнувшись гибким телом, сделала руками круг над головой и пошла топотать по поляне, выбивая дробь...
Наступила очередь Васены. Она изгибаться не может. Левая рука на бедре, в правой, поднятой над головой, платочек. Тумбообразной ногой Васена сделала несколько притопов и запела:
Захотелось старику
переплыть через реку,
но бедняга потонул...
За столами одобрительный смех, и Васена, вроде бы застеснявшись, прикрыла румянощекое квадратное лицо платочком. Мужики встают, берут женщин за локти, ведут к столу и усаживают посередке.
После угощения плясали с припевками и присвистом, лихими выкриками... До самой полуночи гулянка то чуть ослабевала, словно от усталости, то снова вспыхивала с прежней силой...
Тетка Симка не плясала, как ни тормошил ее Егор Ганцев. Она то и дело сбрасывала чуть заметным движением с круглого плеча его заграбистую мосластую руку. Абрам весь вечер упорно следил за ней острыми и совсем сузившимися черными глазами. Она видела это, и ей как будто даже нравилось его неотступное внимание.
Чем кончилась гулянка, не знаю. Забившись в нагретый дневным теплом песок между выветренными толстыми корнями старых тополей, я уснул. Но спал плохо, полусном, боясь проспать уход плота.
Проснулся рано, до восхода солнца. Поежился от холодка и вскочил. На листьях тополей, на реденькой остролистой траве, на песчаных бугорках между деревьями сверкала в свете разгуливающегося утра роса.
Ни столов, ни скамеек, даже пустых бутылок нигде в роще не было видно — все успели унести.
Я кинулся на косу — плота тоже не было у берега. И никаких следов ночлега плотогонов я не нашел. Только изрезанная цинкачом кора на стволе старого тополя говорила о том, что все события минувшего дня и вечера не приснились мне.
Это была, насколько мне известно, последняя такая гулянка в Чибурдаихе — с выносом столов в тальники, с участием в ней всего населения Чибурдаихи и Мерзлого хутора.
Я пошел по деревне. На дворе у тетки Степаниды ворота распахнуты, дверь в сенцы приоткрыта — значит, не спит. Зашел в избу. Тетка Степанида лежала на кровати под одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, но не спала, о чем-то думала. На скрип двери повела на меня сонными глазами.
Я уж хотел было податься назад, но на полу между кроватью и столом увидел медвежью шкуру с растопыренными лапами и отвалившейся на сторону спящей головой...
— Ну вот, — сказал я с плохо скрываемой завистью,— теперь на этой шкуре будете валяться после бани.
— Кто-то будет, а кто-то и нет, — пасмурным голосом ответила тетка Степанида.
— Да уж это яснее ясного, — сказал я,— вы хозяйка, кому разрешите, тот и поваляется.
— Да ведь шкура-то не моя. Ее Игнашка Серафиме подарил. — А она, стало быть, вам?
— Да не-е. — В голосе тетки Степаниды я уловил досаду. — Она у меня ее на время оставила, пока не переедет. Переезжать сюда решилась. Амеля обещался работу на овцебазе дать.
Теперь мне стало не по себе. Это заметила тетка Степанида.
— А ты, Федул, что губы-то надул? — сказала она,— Не хочется, чтобы Серафима переезжала?
Я кивнул.
— Вот те на. Что, не любишь, что ли, Серафиму?
— При чем она, — отмахнулся я, — тетка Симка тут совсем ни при чем. Нюрка с ней переедет.
Тетка Степанида даже перевернулась на бок:
— А что тебе Нюрка? Соли на хвост насыпала, что ли? Ты ее и не видал-то, поди, ни разу.
— И видеть не хочу, — сказал я, направляясь к двери. — Я девчонок хуже горькой редьки не люблю.
— Ну, Минька, — тихо сказала тетка Степанида, гася смешливость, — все вы, мужики, так говорите, пока маленькие. А как подрастете...
Она быстро скинула с себя одеяло и стала надевать
юбку.
Я пошел к себе домой — досыпать.
После отъезда отца из деревни мать моя решила было поселиться в избушке, построенной давно отцом, да дед мой отговорил ее:
— В вашей избушке сейчас только волков морозить, Зимуй у нас, места хватит. А весной я ее приведу в божеский вид.
Из этой зимы я почему-то до сих пор помню одно только событие, связанное с моим полушубком, сшитым из старого отцовского.
Еще до сильных холодов со мной случилась неприятность. Я сжег свои новые валенки, в которых ходил в школу. Сунул в печь просушить да второпях попал в загнетку с непотухшими углями. Утром из печи вынули только голенища.
Матери, видимо, стало жалко меня, и она отдала мне свои старые валенки, несколько раз подшитые. Я и этому был рад. Но в воскресенье, уезжая в поле за соломой, мать надела их, а свои новые валенки положила в печь и строго-настрого наказала мне не вынимать их.
Читать дальше