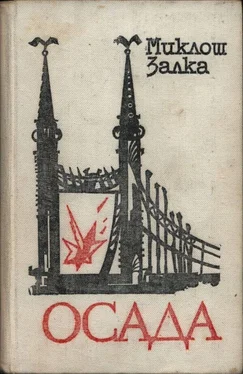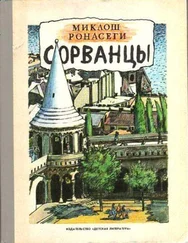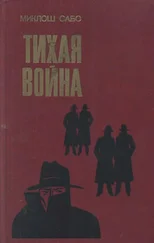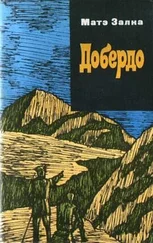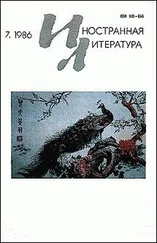Она же ждала, что муж сейчас скажет, что их сын конечно же ни за что не приведет в дом нилашистов, но он так и не произнес этих успокоительных слов. Поняв, что их вообще не будет, жена медленно повернулась к раковине и, низко склонившись над нею, опустила руки в теплую воду.
Шандор уселся на свое место и снова начал посасывать тихо сипевшую трубку, мысленно жалея и своего сына, и жену, а больше всех, пожалуй, самого себя.
В 1918 году Шандора Бонду произвели в сан священника, в котором он пробыл меньше года, так как второго августа следующего года ему уже пришлось расстаться с рясой: его расстригли. Произошло все это очень быстро: в десять часов утра пришло известие о том, что Венгерская советская республика пала, а ее правительство ушло в отставку, а спустя четверть часа он уже стоял перед епископом, а десять минут двенадцатого Шандор Бонда уже в цивильном платье вышел на улицу.
Родился Шандор в бедной семье, получил церковное образование и потому страстно желал стать священником, наставляющим на путь праведный бедняков. Священником бедных, а отнюдь не священником советской республики. Однако Венгерская советская республика дала бедным (что понравилось и ему) права и блага, отнятые у богатых. Но епископ, или, вернее говоря, сама святая церковь, заклеймил священника Шандора Бонду как «красного патера».
На самом же деле Бонда вовсе не был красным, но, оказавшись заклейменным этим страшным прозвищем, в течение почти двадцати лет находился под надзором полиции. Сам-то он прекрасно отдавал себе отчет в том, что не был красным, никогда не был. В данный момент он понимал это, как никогда раньше, отчетливо, и сознание этого причиняло ему почти физическую боль.
Когда он, будучи еще священником, входил на церковную кафедру, то всегда читал своим прихожанам проповеди о любви, а именно: о любви к богу, к ближнему, к истине, которая неподвластна ни насилию, ни произволу. Бонда считал сам и говорил об этом своим прихожанам, что если все люди равны перед богом, то, следовательно, они должны быть равными не только в имущественном положении, но и в любви и в понимании ее тоже.
От огорчения у Шандора перехватило горло. Ему хотелось заплакать, даже зарыдать, как это умеют делать лишь одни дети. «Ненавидьте любовь…» — хотелось выкрикнуть ему сейчас. Лицо его покраснело, грудь высоко вздымалась от охватившего его волнения, а трубку он сейчас держал так, будто это была сабля. «Ненавидьте…» В этот момент он чувствовал себя виновным в том, что сам еще недавно проповедовал всепрощенческую любовь в мирской жизни.
Дрожащими руками он набил трубку табаком и снова раскурил ее.
Жена Шандора продолжала мыть грязную посуду. Руки ее двигались медленно, а на посуду падали крупные слезы.
Муж смотрел на клубы табачного дыма, и в сердце его ничто не дрогнуло, оно нисколько не смягчилось. Он прекрасно понимал, что сейчас уже ничего нельзя исправить, и от этого ему тоже хотелось рыдать. И хотя он смотрел на жену, все его мысли в этот момент были заняты сыном. «Свернуть бы шею мерзавцу…» Грудь Шандора поднялась, он шумно вздохнул. Но сейчас ему было жаль не Белу, не жену и не самого себя, а весь мир, в котором его Бела — всего лишь капля в море, как и он сам или же его жена.
Безо всякого сожаления смотрел Бонда на мучения своей супруги, которая временами украдкой посматривала на мужа, а когда их взгляды встречались, она первой отводила взгляд и снова наклонялась над посудой.
Пыхтя трубкой, Шандор думал о том, что своим молчанием он лишь еще больше обижает жену, но ничего не мог поделать с собой. В голове у него родились фразы: «Перестань, не ешь себя поедом, не стоит…» или же: «Ничего, как-нибудь переживем и это…». Однако он не смог произнести этих слов, так как считал их ложными.
В голову невольно пришла мысль о том, что после его смерти хорошо бы было на надгробии высечь такую надпись: «Здесь покоится прах одного из тех, кого свела в могилу истинная любовь. Так пожалейте же его, люди, сделайте выводы для себя». Ни имени, ни фамилии можно не указывать вовсе, ни года рождения, ни года смерти, так как все это не столь важно. Не нужно высекать и слов «Мир праху твоему». И пусть он ворочается в своей могиле (это даже необходимо), а живущие пусть наблюдают за этим, а понаблюдав, уходят с твердым убеждением, что любовь без ненависти — более страшный яд, чем мышьяк или же цианистый калий.
«Поздно…» — решил Шандор про себя и глубоко вздохнул. Никто не поставит на его могиле такого памятника. Он сожалел не о самом памятнике, а о том, что никто не увидит и не прочтет придуманной им эпитафии. Ему, как никогда раньше, захотелось стать вновь духовным наставником бедных, получить право вещать с амвона, с которого он сейчас говорил бы о безумии, творящемся вокруг…
Читать дальше