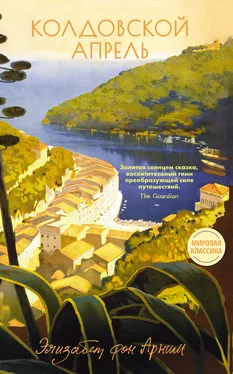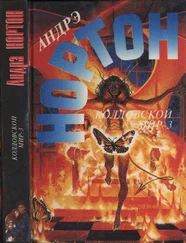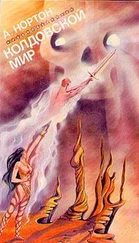Сидя здесь и глядя затуманенным взором на море, Роуз вдруг почувствовала непреодолимое желание прижать кого-то близкого к груди. Роуз была худенькой, столь же сдержанной в фигуре, как и по характеру, и все же она ощутила – как бы это объяснить? – что у нее имеется грудь. Что-то было в этом Сан-Сальваторе, что заставило ее почувствовать себя так. Она захотела прижать к этой груди родную голову, утешить, защитить, гладить эту голову, лежащую на ее груди, и шептать ей о любви. Фредерик, ребенок Фредерика – пусть бы они прильнули к ней, потому что они несчастливы, потому что им больно… Она была бы им нужна, если бы они страдали; они позволили бы ей любить их, потому что несчастливы.
Что ж, ребенок их ушел и никогда не вернется, но Фредерик – возможно, Фредерик, когда состарится и устанет…
Вот о чем думала и вот что переживала миссис Арбатнот в свой первый день, проведенный в Сан-Сальваторе в одиночестве. И вот почему она явилась к чаю в таком унынии, какого не испытывала уже много лет. Сан-Сальваторе отобрал у нее так тщательно выстроенное подобие счастья и ничего не дал взамен. Хотя нет, дал – тоску, боль, желание, это странное ощущение груди, тоскующей по кормлению и утешению, но это куда хуже, чем ничего. И она, обычно такая уравновешенная, никогда не раздражавшаяся и добрая, не смогла, даже пребывая в унынии, вынести претензий миссис Фишер на роль хозяйки за чайным столом.
Можно было предположить, что такая мелочь никак ее не затронет, однако ведь затронула. Неужели у нее меняется характер? Неужели ее отбросило назад не только к тоске по Фредерику, но и к способности сердиться и ссориться из-за мелочей? После чая, когда и миссис Фишер, и леди Каролина снова удалились – совершенно очевидно, никто из них не желал с ней оставаться – она впала в еще большее уныние, совершенно потрясенная противоречием между окружавшим ее великолепием, теплой, изобильной красотой и самодостаточностью природы и пустотой в ее сердце.
А к ужину появилась Лотти, невероятно, но еще более веснушчатая, излучавшая накопленный за день солнечный свет, болтливая, смеющаяся, бестактная, нелепая, несдержанная, и леди Каролина, молчавшая за чаем, вдруг ожила, и присутствие миссис Фишер уже не так ощущалось, и Роуз тоже начала потихоньку возвращаться к жизни, потому что Лотти так заразительно рассказывала о радостях своего дня, в котором для кого-то, может, и не было ничего особенного – просто длинная прогулка на жаре, сэндвичи… И вдруг она поймала взгляд Роуз и спросила:
– Отправила письмо?
Роуз покраснела. Такая бестактность…
– Какое письмо? – заинтересовалась Скрэп. Она поставила локти на стол и положила подбородок на сомкнутые руки, потому что ужин достиг стадии орехов, и не оставалось ничего, кроме как принять максимально удобное положение в ожидании, пока миссис Фишер с ними покончит.
– Приглашение для ее мужа тоже приехать сюда, – пояснила Лотти.
Миссис Фишер подняла глаза. Еще один муж? Им, что, конца-края не будет? Значит, и эта не вдова, но ее-то муж наверняка приличный, уважаемый человек приличной, уважаемой профессии. Она до такой степени не испытывала никаких надежд по поводу мистера Уилкинса, что даже не поинтересовалась, чем он занимается.
– Оно ушло? – настаивала Лотти, поскольку Роуз молчала.
– Нет, – ответила Роуз.
– Ох, тогда завтра обязательно напиши, – сказала Лотти.
Роуз хотела снова сказать «нет». Лотти так бы и сделала на ее месте, а кроме того, подробно объяснила бы причину. Но она не могла вот так выворачивать себя перед всеми наизнанку. Как так получается, что Лотти, которая столь многое подмечает, не в состоянии заглянуть в ее сердце, болевшее о Фредерике, и понять, что не стоит говорить об этом?
– А кто ваш муж? – осведомилась миссис Фишер, аккуратно вставляя в щипцы еще один орех.
– Кем же он может быть, – быстро ответила Роуз, снова чувствуя раздражение из-за слов миссис Фишер, – как не мистером Арбатнотом?
– Я, разумеется, имею в виду, чем занимается мистер Арбатнот?
И Роуз, мучительно покраснев, ответила после крохотной паузы:
– Он мой муж.
Естественно, миссис Фишер была возмущена. Она и представить не могла, чтобы вот эта, с ее прямым пробором и милым голосом, тоже оказалась грубиянкой.
К концу первой недели начала отцветать глициния, а персиковые деревья и иудино дерево усыпали землю розовыми лепестками. Потом отошли фрезии, стало меньше ирисов. А затем, словно им наконец-то освободили путь, расцвели пышные кусты розы Бэнкс, за ними – взбиравшиеся вверх по стенам и шпалерам летние розы, и среди них – роскошные желтые розы Фортуна. Тамариск и волчьи ягоды все еще стояли в полном цвету, по-прежнему гордо возвышались лилии. К концу недели появилась завязь инжира, между оливами расцвела слива, скромная вейгела покрылась свежим розовым убором, а по скалам рассыпались похожие на звездочки цветочки с мясистыми листьями, некоторые – ярко-пурпурные, некоторые – бледно-лимонные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу