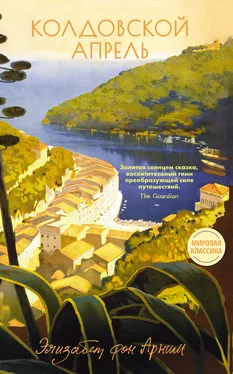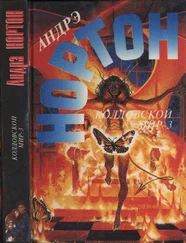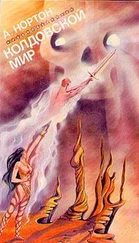Она сидела тихонечко и смотрела прямо перед собой. Странно, но с тех пор, как она приехала сюда, ей совсем не хотелось молиться. Она, дома молившаяся постоянно, почему-то совсем не могла этого делать здесь. В первое утро она, проснувшись, просто кратко поблагодарила небеса, а потом бросилась к окну посмотреть, на что все это похоже – поблагодарила небрежно, словно мячик вверх подбросила, и больше об этом не думала. Сегодня утром, вспомнив об этом и устыдившись, она решительно встала на колени, но, видимо, решительность молитвам не полезна, потому что она не могла придумать, о чем ей просить небеса. А что касается молитв вечерних, то она не вознесла ни одной. Она о них забыла. Она была настолько поглощена своими мыслями, что забыла о молитвах, а оказавшись в постели, сразу уснула и до самого утра кружилась в стремительных, легких, ярких снах.
Что на нее нашло? Почему она выпустила из рук символ веры? А еще она почти позабыла о своих бедняках, позабыла даже о том, что они вообще существуют. Отдых – это, конечно, хорошо, все признают, что это хорошо и правильно, но почему он должен так решительно перечеркивать, вымарывать действительность? Может, это даже и неплохо, что она забыла о бедняках, с тем большим рвением вернется она к ним. Но вот уж что нехорошо, так это забыть молитвы, и что еще хуже – не переживать о такой забывчивости.
Роуз не возражала. И знала, что не возражает. Хуже того: она знала, что не возражает не возражать. Здесь она вдруг стала равнодушной к тому, что наполняло ее жизнь годами, благодаря чему она, как ей казалось, обрела счастье. Если б только она могла просто наслаждаться своим чудесным новым окружением, просто быть – но она не могла. У нее не было работы, у нее не было молитв, она словно опустела.
Лотти испортила для нее этот день так же, как испортила предыдущий – Лотти, пригласившая мужа и предложившая ей пригласить своего. Вернув в ее мысли Фредерика, Лотти покинула ее, и остаток дня ей пришлось провести наедине со своими мыслями. И все они были о Фредерике. В Хампстеде он приходил к ней только во сне, здесь же он освободил ее сны и вместо этого занял весь день. И сегодня утром, когда она изо всех сил старалась о нем не думать, Лотти – перед тем как, напевая, уйти вниз по дорожке – спросила, написала ли она уже письмо с приглашением, и он снова проник в ее мысли, и изгнать его ей не удалось.
Как ей его пригласить? Их отчуждение длилось так долго, вот уже сколько лет. Она едва знала, что за слова можно было бы использовать в приглашении, и, кроме того, он все равно не приедет. С чего бы ему приезжать? Он к ней совершенно равнодушен. О чем бы они стали говорить? Между ними была стена из его работы и ее религии. Она не могла – и как бы она могла, веря, как верила она, в праведность, в ответственность за воздействие своих поступков на других, – смириться с его работой, жить на доход от нее; а он – она знала – поначалу возмущался из-за ее религиозности, а потом просто от нее устал. Он позволил ей ускользнуть, он сдался, он больше не возражал, он равнодушно, просто как факт, принял ее религиозность. Яркое апрельское солнце Сан-Сальваторе осветило все уголки разума Роуз, и она увидела истину: как и от ее религии, он устал от нее самой. Она ему наскучила.
Естественно, когда сегодня утром на нее впервые нахлынуло это осознание, оно ей не понравилось, до того не понравилось, что на какое-то время все красоты Италии померкли. Но что она могла с этим сделать? Она не могла отказаться от веры в добро и отвращения ко злу, а это несомненное зло – жить на доходы от адюльтеров, пусть совершенных давно покойными и знаменитыми. К тому же, если она пожертвует всем, ради чего трудилась последние десять лет, всем, что поддерживало ее существование, станет ли она для него интереснее? Роуз была глубоко убеждена, что если вы однажды кому-то наскучили, то обратить это вспять невозможно. Раз став скучным, скучным и останешься – для того, кому надоел.
Вот и получается, думала она, глядя на море затуманенным взором, что лучше уж держаться религии. Уж куда лучше – она и не заметила всей греховности такой мысли – чем ничего. Но как же ей хотелось придерживаться чего-то осязаемого, любить что-то живое, что-то, что можно прижать к сердцу, на что можно смотреть, до чего можно дотрагиваться, о чем можно заботиться. Если бы только ее бедный малыш не умер… Детям ты надоесть не можешь, разве что после того, как они вырастают, а это занимает много времени. И ведь может получиться так, что ты не наскучишь своему ребенку, и вот он вырастет, взрослый, бородатый, а ты по-прежнему будешь для него особенной и – безо всякой причины – бесценной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу