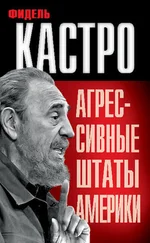Он отказался от еды, которую ему предложил Фирмино, и на вопрос: «Ты что, не ходил сегодня на тропу?» — ответил глухо и коротко, как отрезал: «Нет».
Удивленный Фирмино поднял голову, всматриваясь в лицо товарища, но тот, повернулся и пошел в спальню. Там он, разостлав холстину, собрал свою одежду и все свои вещи. Потом снял гамак и сетку от москитов, свернул их и уложил туда же.
Фирмино, пожав плечами в знак того, что это его не касается, глядел на его сборы, ожидая какого-либо объяснения.
Но нет. Агостиньо продолжал упорно молчать. Потом лихорадочно, словно он вспомнил о чем-то очень важном, вытащил из ножен свой нож и принялся мыть его в банке с водой. Вода окрасилась кровью.
— Что с тобой случилось?
— Ничего, — ответил он так же глухо и коротко, как всегда, оставив вопрос в общем-то без ответа.
Затем поднял мешок, приладил его хорошенько за спиной, повесил через плечо ружье, надел шляпу и остался стоять, задумавшись, посреди хижины. Наконец, протянув руки, подошел к другу:
— Прощай, Фирмино!
Это было долгое, молчаливое объятье, и Алберто заметил, что по лицу Агостиньо, прижатому к плечу мулата, катились крупные слезы.
— Прощайте, сеу Алберто…
Затем он вышел, и оба приятеля, прислонившись к двери, наблюдали, как он зашагал в глубь неведомой, таинственной, дикой сельвы. И вскоре исчез, покинув поляну, над которой витала та же тягостная тревога, что и в хижине.
— Что случилось? — спросил Алберто.
Фирмино ответил не сразу. Его глаза были озабоченно устремлены в сторону зарослей, где скрылся Агостиньо. Потом сказал:
— Что-то нехорошее… Но там, в этих зарослях, он наверняка погибнет. Разве он проберется через сельву, да еще в половодье?
Есть им расхотелось. Высказывая всякие догадки, но совсем не утешительные, поскольку ничего другого не приходило им в голову, они пожевали солонины, и затем Фирмино решил отправиться в Игарапе-ассу и разузнать, что случилось. Плыли долго, лодка словно стояла на месте, хотя Фирмино греб изо всех сил.
Едва они ступили на берег, как из толпы, сгрудившейся на площадке у хижины Назарио, вышли двое сборщиков, взволнованно спрашивая:
— Где он? Где он?
— Кто?
— Агостиньо.
Теперь подошли уже все, окружив Фирмино и Алберто.
— Не видели его?
— Но что случилось?
— Он убил Лоуренсо!
Пораженный, Фирмино на мгновение заколебался, не зная, как ответить.
— Ушел… — проронил он наконец.
— Куда?
— В те дальние заросли…
— Разве я не говорил, что это был он? — воскликнул Назарио. — Я видел, как он шел к озеру, а потом возвращался оттуда, и по лицу было видно, что он кого-то прикончил!
Возмущение нарастало. Кабокло, живший здесь на отшибе, щедрый и бескорыстный человек, пользовался всеобщей любовью, и все теперь полны были жалости к нему и ненависти к преступнику. Агостиньо убил его ударами ножа по голове и, видимо, напал на него предательски, спрятавшись за деревом, возле которого был найден труп. Лоуренсо даже не крикнул, иначе его услыхали бы, — ведь он был убит совсем близко от жилья. Возвращаясь с тропы, Афонсо натолкнулся на него, уже покрытого насекомыми, которые пировали свернувшейся кровью.
Алберто и Фирмино подошли к телу. Кабокло лежал на циновке на маленькой площадке, и из пробитого черепа вытекал мозг. Чья-то сострадательная рука вытерла ему лицо. Глаза у покойника были раскрыты, и в них застыло последнее изумление человека, убиваемого безвинно, и в гримасе его рта еще угадывалась ласковая улыбка, улыбка неведения и самоотречения, с которой он встречал серингейро у себя в удачливый для него день. Один из ударов пришелся по лбу сверху вниз, и лоб был рассечен до основания носа. У тела билась с громкими воплями жена. А к безжизненной груди убитого приникла, рыдая, дочь, которую он так любил и которая стала причиной его смерти.
Алберто стал наблюдать за ней. Она была совсем ребенок: едва расцветающее тельце, слабенькие ручки, которым еще нужна кукла, — где-нибудь в другой стране никто не подумал бы о ней как о женщине.
Возвращаясь вместе с Фирмино, который повторял между двумя ударами весла: «Я ждал чего-нибудь такого; я говорил, что с Агостиньо творится неладное!» — Алберто произносил про себя речь, как в те времена, когда он студентом расхаживал по улицам Лиссабона и мечтал о крупных процессах, где он сможет проявить свой талант: «Господин судья! Господа присяжные! Сострадание — самая благородная человеческая черта! Человек, совершивший подобное убийство, являет собой натуру наиболее омерзительную. Не порочьте же благороднейшее чувство сострадания, оправдав человека, который сам никогда ни к кому не питал сострадания! Представьте себе, — если вы можете сделать это без содрогания, — общество, состоящее из таких личностей, как этот преступник…»
Читать дальше
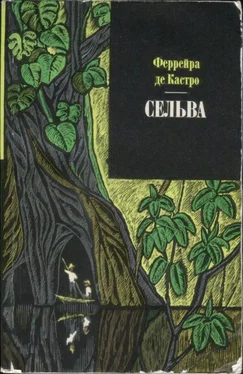
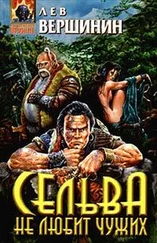

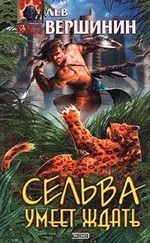




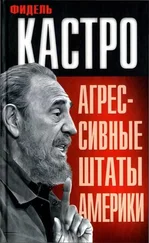
![Владстон Феррейра Фило - Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику]](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-thumb.webp)