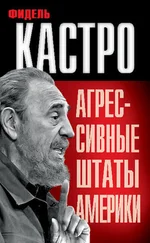Мертвая вода, застоявшаяся летом в прибрежных зарослях и похожая на черный ил, оживала, приходя в движение, и теряла свой черный цвет, соприкасаясь с другой водой, которая смешивалась с нею и разливалась повсюду.
Озера теряли очертания; не было больше ни берегов, ни блестящих глаз, которыми земля взирала на небо. Все кругом — просто грязная вода, безбурное море, гладкое посередине, а по краям, на необъятных пространствах, окаймленное огромными полузатопленными деревьями, похожими на гигантских земноводных.
И даже болота, летом высыхавшие и превращавшиеся в загнивающие клоаки, теперь, пополнившись водой, привлекали стаи рыб, искавших разнообразия природной среды.
Лишь кое-где морская свинка или котиа, тапир или олень могли отыскать для себя какой-нибудь небольшой островок, еще не затопленный полностью. Но повсюду вместо земли была топь, грязное месиво, в котором увязал скот, а у людей от этой жидкой грязи лопалась кожа на ступнях.
Люди жили над водой, которую было видно сквозь щели пола, опирающегося на сваи; летом кабокло привязывали свои лодки у высокого берега в полукилометре от дома, теперь же вода подступала к самому порогу их хижин. И дождь лил, лил без конца.
Половодье длилось месяцами, и в годы наибольших разливов на равнинах бассейна не оставалось ни одной овчарни. В предвидении половодья более предусмотрительные фазендейро сооружали тут же маромбы — широкие помосты, где скот должен был зимовать прямо среди воды. Но часто и это оказывалось бесполезным. Поток захлестывал помосты и губил скот. Быки и коровы сначала стояли в воде, а затем погружались в нее по брюхо и в конце концов падали от истощения, и их сносило вниз по реке, на съедение хищным рыбам — пираньям и кандиру.
Вода добиралась до цветущих плантаций и разоряла землю, расчищенную под посевы сильными руками кабокло. А у наиболее неосмотрительных поток уносил разрушенные страшной силой жилища, сооруженные в пределах досягаемости полой воды. Огромная грязная водная скатерть несла в своих складках разорение и нищету.
На расположенных выше реках — Пурусе, Журуа, Солимоэнсе и Мадейре — оставалось больше твердой почвы, больше нетронутых зарослей по берегам, в которых животные искали укрытия. Но и там половодье наносило не меньший урон, и там жители вынуждены были постоянно, в течение всей жизни менять свое пристанище.
В Тодос-ос-Сантос Фирмино, Агостиньо и Алберто с большим трудом пробирались теперь по лесу от одной серингейры к другой. Затопленные места простирались вплоть до тростниковых зарослей, и тропы почти целиком были покрыты водой; каждый шаг приходилось делать с осторожностью из-за боязни наступить на невидимую колючку или на что-нибудь похуже. Возвращались они насквозь промокшие: с брюк текла вода, а в ботинках хлюпала грязь.
В Игарапе-ассу, Лагиньо и Попуньясе половодье тоже требовало жертв, но и здесь они оказывались напрасными. У людей опускались руки: побежденные беспощадным противником, они не могли добывать каучук, и четыре-пять бесплодных месяцев еще больше отдаляли срок желанного возвращения и тянулись томительно долго для этих несчастных, лишенных нормальной жизни людей.
Алберто чувствовал себя так, словно находился в тюрьме без определенного срока заключения, без твердо обозначенного дня, когда перед ним откроются ее двери. Цифры были его мучением, звеньями цепи, которая приковывала его ко времени и заставляла непрерывно вести подсчеты. «Тысяча шестьсот сорок мильрейсов… Два года? Пять лет? Или всю жизнь?»
Отсутствие твердого срока волновало его больше всего. Он не мог привыкнуть к своему здешнему существованию. Веря, что через какое-то время он покинет серингал, он только об этом и думал и приходил в отчаяние, сознавая, что прибыл сюда еще так недавно… Чужой была здешняя жизнь, земля, чужими были люди. Ничто здесь не могло его радовать; ничто не напоминало о людях, с которыми он раньше жил, о его прежних привычках, о вещах, которые он любил. Это был совсем другой мир, первозданно-дикий, приводящий в изумление, — и жестокий, жестокий! Ни одно из виденных им здесь деревьев не вызывало у него представления о красоте, не рождало в его душе мечтательного наслаждения. Да и того, что обычно называют деревом, здесь вообще не было. Был дремучий лес, безумный, перепутанный, прожорливый, с душою и когтями голодного зверя. Этот лес сторожил его, молчаливый, недоступный, следя за каждым его шагом, закрывая перед ним все дороги, держа его в плену и порабощая. То была огромная зеленая стена и выдвинутая вперед стража из кустарника, который рос вокруг водоема: Фирмино то и дело срезал его ножом, но он вырастал снова с нелепым и загадочным упорством. Сельва не прощает наносимых ей ран, и она не успокоится, пока просека не зарастет снова, превратив хижину в заброшенные руины, — через десять, двадцать, пятьдесят, неважно через сколько лет, но такой день настанет! Случится ли это потому, что истощатся серингейры, или сюда нагрянут дикие племена и прогонят тех, кто захватил их земли, или произойдет что-нибудь другое, менее важное, но так будет! Угроза таилась в воздухе, которым они дышали, в земле, по которой они ходили, в воде, которую пили, и она не могла не исполниться: все здесь было подчинено власти сельвы, а власть ее не знала пределов. И людьми, словно марионетками, управляла та скрытая сила, которую они, печально заблуждаясь, считали побежденной своим честолюбием.
Читать дальше
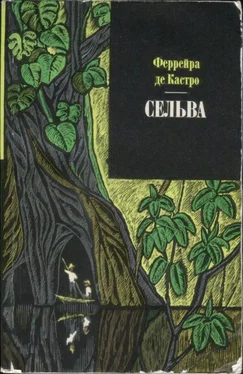
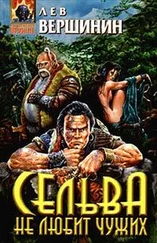

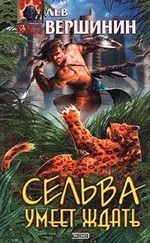




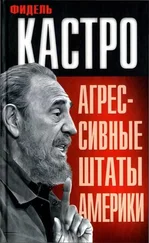
![Владстон Феррейра Фило - Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику]](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-thumb.webp)