— Любовь твоя слишком уж тяжела, — сказал он и подумал: а ведь эта ведьма сейчас смотрит на меня; сидит прямо надо мной на втором этаже и смотрит на меня сквозь пол.
— Слишком тяжела? — переспросила Сэти, думая о Поляне, где воззвания Бэби Сагз заставляли конские каштаны падать с деревьев. — Любовь или есть, или ее нет. Легкая любовь — это вообще не любовь.
— Да. Но ведь это тебе не помогло, верно? Разве я не прав? — спросил он.
— Помогло, — сказала она.
— Как? Твои сыновья ушли из дома, и ты не знаешь, где они. Одна твоя дочь мертва, другая со двора выйти боится. Как же тебе это помогло?
— Они не вернулись в Милый Дом. Этот учитель до них не добрался.
— Ну знаешь, бывает и похуже, чем в Милом Доме.
— Это не мое дело — знать, что хуже. Мое дело — знать, что плохо, и держать своих детей подальше от этого. Я спасала их от ужасной судьбы. Я поступила правильно.
— Нет, то, что ты сделала, было неправильно, Сэти.
— Значит, мне надо было вернуться в Милый Дом? И отвезти туда своих детей?
— Был же, наверное, какой-нибудь другой выход. Не такой.
— А какой?
— У тебя же две ноги, Сэти, не четыре! — воскликнул Поль Ди, и в тот же миг между ними выросла темная лесная чаща — ни следов, ни единого звука.
Позже он удивлялся, что заставило его сказать такое. Может, те телки, с которыми он забавлялся в юности? Или уверенность, что та ведьма смотрит на него сквозь пол? Как быстро он перестал стыдиться собственных поступков и начал испытывать стыд за нее, Сэти. Как бы перепрыгнул через свою постыдную тайну, связанную с холодной кладовой, и возмутился ее слишком большой и тяжелой любовью.
А меж тем непроходимая чаща, разделявшая их, становилась все гуще.
Он не сразу надел свою шляпу. Сперва покрутил ее в руках, решая, как бы получше это сделать, как просто уйти из этого дома, а не сбежать. И еще было очень важно уйти, не оглядываясь. Он встал, повернулся и посмотрел в сторону белой лестницы. Она, конечно же, была там. Стояла, прямая как штырь, повернувшись к нему спиной. Он не бросился к двери. Он пошел медленно и отворил дверь раньше, чем попросил Сэти оставить ему что-нибудь на ужин: он, возможно, несколько припозднится. И только тогда надел шляпу.
Очень мило, подумала она. Он, должно быть, считает, что мне не вынести, если он скажет правду вслух. Что после моего рассказа и после того, как он сосчитал, сколько у меня ног, слово «прощай» заставит меня сломаться. Ну разве это не мило с его стороны?
— Пока, — прошептала она ему с другого конца выросшей между ними непроходимой лесной чащи.
В доме номер 124 было шумно. Это Штамп мог услышать даже с дороги. Он шел к крыльцу, как можно выше подняв голову, чтобы никто увидевший его не мог сказать, что он ведет себя как трус или ябедник, хотя сам он в душе чувствовал себя трусом и ябедником. С тех пор как Штамп показал Полю Ди вырезку из газеты и узнал, что он в тот же день исчез из дома номер 124, ему было очень и очень не по себе. Выдержав долгий спор с самим собой, стоит ли говорить мужчине о том, что некогда натворила женщина, которую тот любит, и в конце концов убедив себя, что должен это сделать, Штамп начал тревожиться о Сэти. Неужели он помешал ей в кои-то веки испытать счастье с действительно хорошим человеком? А что, если эта потеря разбила ей жизнь? Что, если он, тот самый человек, который когда-то помог ей перебраться на другой берег Огайо и который был ей таким же близким другом, как Бэби Сагз, по собственной воле, сдуру, оживил старые сплетни?
«Я слишком стар, — думал он, — и голова у меня варит уже плоховато. Я слишком стар и слишком много видел». Во время пирушки на дворе бойни он старательно держался ото всех подальше; ему теперь было даже неясно, кого он хотел спасти, ведь Поль Ди был единственным человеком в городе, который ничего не знал. Но почему то, что было написано в газете, стало такой тайной, что о ней можно было только шептаться с Полем Ди на дворе бойни? Тайной от кого? От Сэти, вот от кого! Он, Штамп, сделал это у нее за спиной, как подлый трус. Но выяснять и выведывать было его, можно сказать, специальностью, его жизнью; хотя он занимался этим всегда ради ясной и святой цели. До Войны он только и делал, что выяснял и вынюхивал, прятал беглых негров в тайниках, поставлял всякие секретные сведения обществам по борьбе с рабством. Под его вполне законно выращенными овощами в телеге прятались чернокожие беглецы, которых он перевозил через реку. У него даже свиньи на бойне служили благородным целям. Целые семьи жили за счет тех костей и требухи, которыми он их снабжал. Он писал за беглых негров письма и читал им послания, которые они получали. Он знал, у кого из них водянка и кому нужны дрова для печи, у кого дети умные и способные, а чьих детей надо бы малость подучить. Он знал все тайны реки Огайо и ее берегов; знал, где есть пустые дома и где дома набиты битком; знал, кто лучше всех танцует и кто хуже всех говорит; знал тех, кто удивительно хорошо поет, и тех, кто не может ни одной ноты взять правильно. Успехами в любовных делах он уже похвалиться не мог, но помнил те времена, когда мужской силы ему вполне хватало, когда порой мог потерять от любви рассудок, а потому долго и мучительно думал, прежде чем открыть деревянную шкатулку и достать оттуда старую, восемнадцатилетней давности, газетную вырезку и показать ее Полю Ди.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




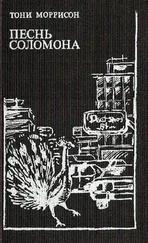

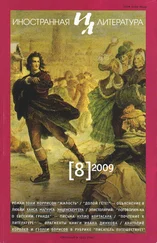

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

