От ее слов у него закружилась голова. Сперва он подумал, что это потому, что она все время ходит туда-сюда. Ходит и ходит вокруг него кругами, словно вокруг того, о чем поговорить хочет. Кругами, кругами, все в одном и том же направлении, если б она хоть его сменила, может, у него тогда голова бы и не закружилась. Но потом он решил: нет, виноват ее голос; слишком близко от него звучит. Она совершала круги ярдах в трех от того места, где он сидел, но ему казалось, что она, как ребенок, шепчет ему в самое ухо и сидит так близко, что почти чувствуешь, как шевелятся ее губы, выговаривая слова, но сами слова расслышать трудно, потому что губы слишком близко от уха. Он воспринимал только отдельные куски того, что она говорила, и это было даже хорошо, потому что она так и не добралась до главного: до ответа на вопрос, который он прямо не задал, но который вытекал из той газетной вырезки, которую он ей показал. И еще — из его улыбки. Ведь он так улыбнулся, протягивая ей статью с фото, что она вдруг рассмеялась, словно шутке, и лицо ее стало растерянным, похожим на лица других негритянок. Что ж, и он был бы рад посмеяться с нею вместе.
— Ты представляешь? — говорил он ей. — Нет, старый Штамп просто спятил! — И она хихикала в ответ. — Совсем спятил.
Но его улыбка так и застыла, будто повисла в воздухе, неуверенная и одинокая, пока Сэти изучала газетную вырезку, а потом отдала ее ему обратно.
Может быть, это из-за его улыбки, а может, из-за той готовности любить, которую она видела в его глазах, — с такой доверчивой и открытой любовью смотрят на тебя жеребята, евангелисты и дети; такую любовь нет необходимости заслуживать — она дается даром; и вот из-за этой любви Сэти все-таки сделала первый шаг и рассказала ему про то, о чем не говорила даже Бэби Сагз, единственному человеку, которому доверяла бесконечно. Иначе она просто повторила бы то, что написано в газете, и больше не прибавила бы ни слова. Сэти сумела прочесть только семьдесят пять печатных слов (половину из тех, что были в той газетной вырезке), но знала, что те слова, которых она не понимала, вряд ли имели такую же силу, как ее слова. Дело было в его улыбке, в его любви; только это и заставило ее попытаться объяснить ему что-то.
— Мне не нужно рассказывать тебе о Милом Доме и о том, как там все было; но, может быть, ты не знаешь, что значило для меня — убежать оттуда.
Прикрыв нижнюю половину лица ладонями, она помолчала, пытаясь снова ощутить чудо своего освобождения, его вкус.
— Я это сделала! Я всю свою семью вытащила оттуда. И даже без помощи Халле. Это было первое настоящее дело, которое я сделала сама. Я решилась. И все вышло в точности так, как и было задумано. Мы все оказались на другом берегу. Все мои дети и я. Я их родила, я их перетащила на другой берег. Я сама. Мне, конечно, помогали, многие помогали, но все-таки сделала это я; это я командовала себе: давай, пора. Это я была осторожной и пользовалась собственными мозгами. Но приятнее всего оказалось то, что называют себялюбием, я об этом раньше и не подозревала. Да, это оказалось приятно и правильно. Я была такой большой, Поль Ди, и глубокой, и широкой, и когда я раскидывала руки, все мои дети могли там укрыться. Вот какой я была огромной. Похоже, я полюбила своих детей куда сильнее, когда добралась сюда. А может, там, в Кентукки, я просто не могла любить их так, как надо, потому что они были не совсем мои. Но когда я добралась сюда, когда выпрыгнула на землю из той повозки — не было в мире человека, которого я не смогла бы полюбить, если сама не захочу. Понимаешь, о чем я?
Поль Ди не ответил, да она и не ожидала, даже не хотела, чтобы он ответил, но он прекрасно понимал ее. Когда он слушал голубей в Алфреде, штат Джорджия, и не имел ни права, ни дозволения радоваться их воркованию, потому что там все — туман, голуби, солнечный свет, жидкая красная глина, луна — принадлежало тем людям, у которых были ружья. Кое-кто из них был маленького роста, другие высокие, но любого он, Поль Ди, мог бы сломать как хворостинку, если бы захотел. Те мужчины, считавшие, что мужественность их заключается в оружии, отлично понимали, что без их ружей любая лиса в кустах только посмеется над ними. И эти, с позволения сказать, «мужчины», над которыми даже лисы и старухи смеялись, могли при желании запретить тебе слушать голубей или наслаждаться лунным светом. Так что приходилось как-то защищаться, любить тайком и что-нибудь самое маленькое. Выбирать самые крошечные звезды на небе и считать, что они твои; лежать на боку, вытянув шею, чтобы перед сном за краем канавы увидеть звездочку, которую любишь. Украдкой поглядывать на нее, мерцающую между деревьями, когда тебя приковывают к общей цепи. Оставались еще стебли травы, саламандры, пауки, дятлы, жуки, муравьиное царство. Что-либо больших размеров не годилось. Женщина, ребенок, брат — от такой большой любви ты вполне мог расколоться надвое там, в Алфреде, штат Джорджия. Он прекрасно понимал, что Сэти имела в виду: замечательно попасть в такое место, где можно любить все, что пожелаешь, и не просить у кого-то разрешения на эту любовь. Что ж, может быть, это и называется свободой?
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




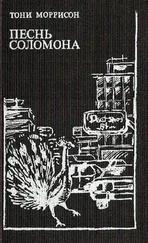

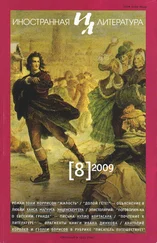

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

