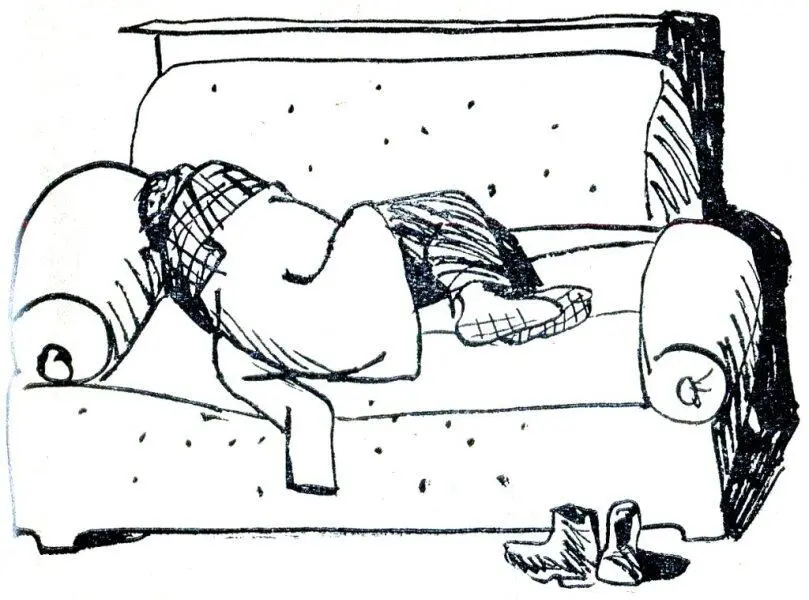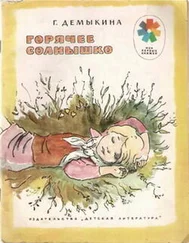Мама!
Тогда и Володя вышел. В свою комнату. Повернул ключ. Лег животом на диван и долго-долго лежал. И ничего не думал. Солнце перемалевало верхние листья тополя у его окна. Ветер вздыбил их. Может, кто глянет? Никто не глянул. Потом стало темнеть.
Под редкие городские звезды выплыли, как русалки, стосковавшиеся без дела и друг без друга соседки.
— Охо-хо. И все пьянство. — Это, конечно, про Алькиных родителей.
— Зеленый змий.
— …Ведет парня-то, а сам качается.
— Бит небитого везет.
— Вот-вот. Охо-хо. Глаза не глядят.
А уж глазам-то давно глядеть не на что. Разве только уши выручат. И они выручили. Выбрали из прочих звуков басовитое бормотание, как оно понемногу переходило в песню:
Ох и тюшеньки,
Я девица-краса!
Надтреснутый тенорок повел втору:
А коса-то ниже
пояса,
Лицо-личико,
Как яблочко…
— Охо-хо. Сынок чуть жив, а они поют.
А голоса шли своей дорожкой, давно проторенной. Спотыкались и подхватывали друг друга.
И вдруг — знакомое непопадание подстройки — неужели Алька? «Бум» — не в лад, «ах-ха-ха» — не в лад. А кто ж еще? Конечно, он. И потом ровное звучание баяна… Точно кто-то обнял стариков за плечи, растерянных, жалких.
Володя подтянулся, высунулся на улицу. Был виден только освещенный угол теплого окна, где за марлевой занавеской жили, пели, плакали люди.
— Как же так?
Конечно, пьянство — это гадко. Но, может, пьяницы тоже бывают разные.
Ну а те, на скамеечке? Ведь не пьют. И говорят все верно. Кое-что заранее знают — если плохое. Но они хуже, хуже этих вот пьяниц. Ведь если только плохое видеть — как жить? Вот тетя Лида кричала: «Слепая вера». А доверие?
«Этому человеку можно доверить». Значит, верят. Знают его и верят. Пока слепо. А уж он сделает, как надо. Не беспокойтесь! А если как она — это же все разрушить. Все подрубить. И как же — на себя ничего не уронить?
Или — доброта. Вот папа добр. С ним, с Володей, добр. С мамой добр. И с тетей Лидой. А ведь знал, что делает тетя Лида. (Ну, ее вообще больше нет для Володи!) Знал, сердился, а доброта помешала.
Как же так?
Разве может помешать доброта?
Или вот — запретили Альку. Разве вообще можно запретить человека?
Все равно, что убить его для другого.
Был человек. Для тебя. Его слова. Его дружба. Его верное плечо.
А они скажут — и нет?
Нет его дружбы, которая только тебе. Не Лехе, не Гоге, а тебе. Нет его силы («Не хочу впутывать») и слабости («Будет последний разговор. Придешь, а?»), всего, что он и что с ним: карусели, березового сока, ивовых пушинок в узеньких Тошкиных руках.
Разве так бывает?
А песня? Они же хотели придумать песню:
Жила-была капуста —
Хороший человек…
Володя улыбнулся своему, что хотели так легко отобрать. И немножко отняли. Потому что такуже не будет. Володя не мог бы объяснить, но знал точно.
Из окна широко шла темнота опустевшего двора. И холод. Володя подобрал ноги, скорчился. Диван качнулся и поплыл. Близоруко улыбнулся отец. Взмахнула толстыми нелепыми руками тетя Лида. Мама сжала Володину голову тоненькими, как у Тошки, пальцами, виновато заглянула в глаза:
«Ну да, я струсила. Я боюсь качелей». А качели летели вверх, к холоду и ветру.
И он на них — один. Никого на противоположном конце. Вперед — вверх… Но это был уже сон.
 Володя прятался за березу в дремучем Измайловском лесу. А Длинный размахивал топором, прорубался к нему — бум! бум!
Володя прятался за березу в дремучем Измайловском лесу. А Длинный размахивал топором, прорубался к нему — бум! бум!
— Я тебя не обижу, братишка.
— Отстань!
— Работа легкая — смотри, — бум-бум…
— Совсем отстань!
Деревья падали все ближе, удары топора над ухом бум-бурум-бум.
— Володя!
Откуда-то — мама.
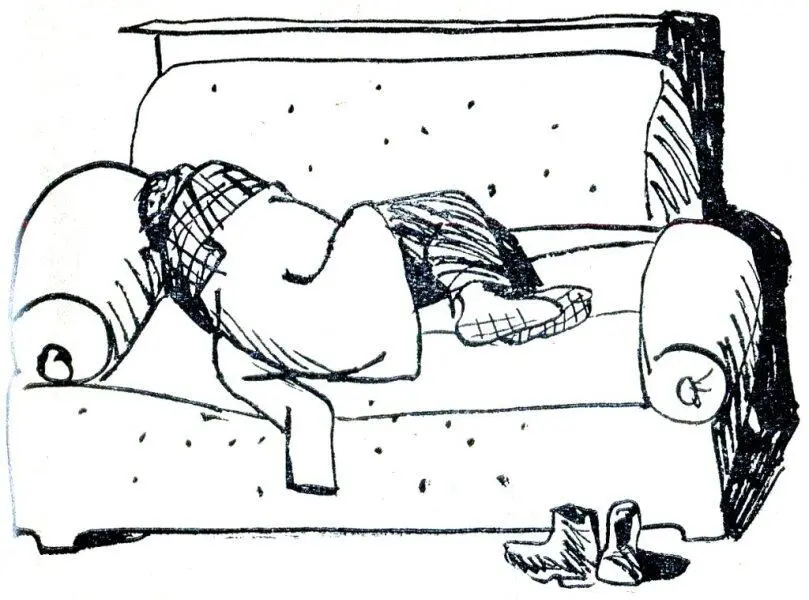
Да нет, какой же лес. Володя, одетый, на диване. Утро. Стучат в дверь.
— Ты что, заперся? Открой. — Он открывает. Пожалуйста.
Папа растерянный. Мама тоже.
У нее такое лицо, как было, когда Володя еще маленький без спросу ушел на улицу и потерялся, и потом нашелся. Будто она боялась, что его за дверью нет. И теперь рада, что он здесь. И все-таки сердита.
— Ты что, спал одетый?
— Да.
— Не разбирал постели?
— Нет.
— Вы все время так без меня? Николай?
— Ну что ты, Лёля.
— А что? Очень удобно. И не подметали. Ты хоть разок подмел у себя, сыночек, дорогой? Впрочем, у тебя нет времени! Надо дружбу вести.
Читать дальше

 Володя прятался за березу в дремучем Измайловском лесу. А Длинный размахивал топором, прорубался к нему — бум! бум!
Володя прятался за березу в дремучем Измайловском лесу. А Длинный размахивал топором, прорубался к нему — бум! бум!