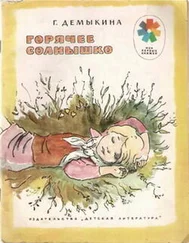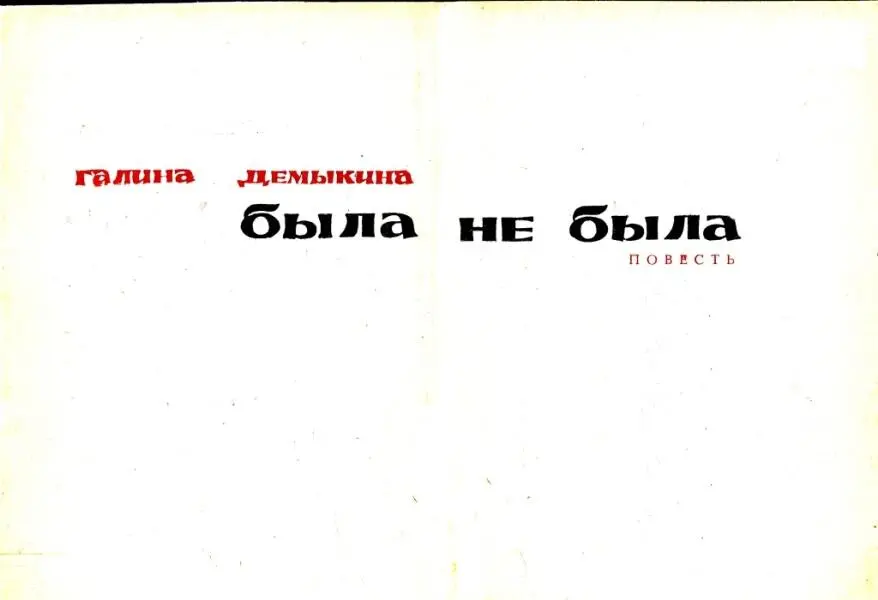
Галина Демыкина
Была не была
ПОВЕСТЬ
 Во дворе стоят три дома буквой «П». Давно стоят, лет сорок. А посредине — дерево. Тополь. Во все стороны сучки — лазать легко. И дупла-тайники.
Во дворе стоят три дома буквой «П». Давно стоят, лет сорок. А посредине — дерево. Тополь. Во все стороны сучки — лазать легко. И дупла-тайники.
И что смешно — одной веткой прямо в окно второго этажа лезет. Человек, который там живет, откроет окошко и тополю руку пожмет:
— Здорово, старик.
Он всем так говорит — старик. Чудной немного: молодой, а бороду носит. И косынку вокруг шеи тоже носит. А шапку не носит. Даже зимой. Тетя Шура — соседка, говорит: «Художник! На занавеску не заработает. Срам какой! Окна без штор, что душа без заслонки. Кому не лень — глянет».

И вот вышел как-то этот человек — «душа без заслонки» — во двор и остановился возле тополя.
Во дворе, наверно, штук сто окон. И изо всех:
— Вышел?
— Вышел.
— Ну, значит, всё. Уезжает.
Легко ли уезжать из дому, где всю жизнь прожил? Это каждому понятно. Да еще ехал бы в новую квартиру, а то просто меняет. И вот прощается теперь с двором, с детством:
— До свиданья, тополь!
Из квартиры вынесли вещи, дверь оставили настежь. Чтобы вроде и духу не было. И мальчик, Володя Черных из соседнего подъезда, озираясь, вошел. Он давно хотел войти, а не решался.
И вот решился. Комната-коробка. Три стены голубые, одна — желтая. Гвозди здоровущие в стенах: все, что осталось.
А были рыбы. «Душа без заслонки» рисовал рыб. Здесь, против окна, висели в рамке унылые серые селедки. Сами иссохли, а глаза живые, Рядом с ними — еще рыба — круглая, голубая, лицом похожая на тетю Шуру — соседку. Сама тетя Шура не похожа на рыбу, а рыбина эта на тетю Шуру — очень. Володя тогда думал: нарочно нарисовал, посмеяться, или так получилось?

А еще виден был длинный черный дом на черном ночном пустыре. И одно большущее неровное окно — так и светится. И луна кособокая, и ни душеньки живой… А на земле опять рыба — кто-то обронил. Обронил и ушел и не вернется к пустырю, к одинокому дому, к тому, кто за этим окном… Володя, если во дворе не было ребят, все глядел, запрокидывая голову ко второму этажу. Он не любил этих рыб. А глядел. И теперь будто что-то потерял. И бородатого тоже не очень любил. Ведь что тот прошлой весной придумал!
Володя бежал в магазин, а он:
— Погоди, сядь-ка на лавочку.
— Некогда мне, дядь.
— Посиди, старик. Я быстро набросаю, — и усадил. — Я тебе конфет дам.
— Что я — маленький?
— На кино тогда. Кино любишь? Что у нас в «Новаторе» идет? — А сам — раз, раз-раз, — чиркает в блокноте.
— «Барабаны судьбы» идут.
— Сиди, сиди. Молчи, — прямо прикрикнул даже. И стал насвистывать, голову на обе стороны наклонять, забыл, что перед ним человек живой. А тут ребята набежали:
— Ого, Черныховый портрет!
— На Доску почета!
— Лучший дояр!
— А глаза-то, гляди, ребя! Больше морды, прямо за уши заворачивают.
— Марсианин!
— Не! С луны свалился!
Тетя Шура, соседка, приблизилась:
— Охо-хо, — однако не отошла. Старушка на лавочке закряхтела, потревожилась — тоже посмотреть. Толпа целая. И все громко свои замечания говорят.
А Володе и стыдно, и уйти теперь — как же? И на бородатого зло берет — не слышит, что ли?
А потом глянул на рисунок — мамочки мои! Заморыш перепуганный, птенец из гнезда!
— Ну что, похож?
— Не.
— Похож, похож. Ты еще сам не знаешь! — бородатый смеялся, потирал руки.
Ребята потом целую неделю дразнили Володю лунатиком.
 В ворота протиснулся грузовик. Во дворе штук сто окон. И еще скамеечки. Тоже полны. Как в театре.
В ворота протиснулся грузовик. Во дворе штук сто окон. И еще скамеечки. Тоже полны. Как в театре.
— Едут?
— Едут!
— Охо-хо!
— Только бы тунеядцев не нанесло.
— Пропал тогда наш двор.
— Хуже пожара повыметут.
Грузовик вышел на середину сцены. Из окон видно лучше, чем со скамеечек:
железные кровати — три;
кухонный дощатый столик — один;
сундук — один;
платяной шкаф, неоструганные ящики, в каких перевозят фрукты, узлы.
Читать дальше

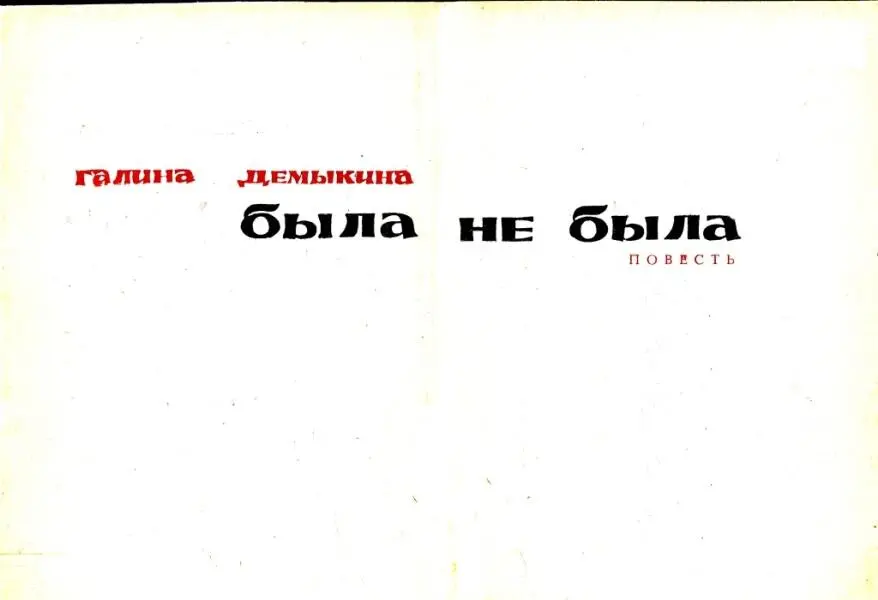
 Во дворе стоят три дома буквой «П». Давно стоят, лет сорок. А посредине — дерево. Тополь. Во все стороны сучки — лазать легко. И дупла-тайники.
Во дворе стоят три дома буквой «П». Давно стоят, лет сорок. А посредине — дерево. Тополь. Во все стороны сучки — лазать легко. И дупла-тайники.

 В ворота протиснулся грузовик. Во дворе штук сто окон. И еще скамеечки. Тоже полны. Как в театре.
В ворота протиснулся грузовик. Во дворе штук сто окон. И еще скамеечки. Тоже полны. Как в театре.