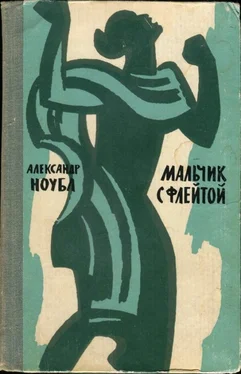И что Вреде тревожило, так это их застывшее мышление. С годами к ним пришло благополучие, а их головы были по-прежнему забиты ограниченными понятиями, сопутствовавшими первым поселенцам. Они выстояли против власти англичан и нужды, непоколебимо верили друг другу, а больше никому и ничему на свете. В центре их — община, оттуда они и взирали на мир, вызывая восхищение своим постоянством. Но геройство в негероическое время легко превращается в позу, в привычку, в помеху. Для стариков туземцы всегда были туземцами. Акт личной доброты по отношению к отдельному черному был вполне допустим, однако и в пенни должно ему быть отказано, если оное бросает вызов общественному мнению, утверждавшему, что барьер должен охранять каждую расу. Отворись добру — и ты рискуешь навести порчу на здоровый организм общества.
Доктор Вреде избегал разговоров на политические темы, ему претило философствование, ограниченное политическими предрассудками. Он предпочитал беседовать о болезнях лояльного африканца. Со всей тщательностью он лепил детали и воссоздавал в законченное целое его образ — личность, нуждающуюся в шлифовке и цивилизации и вполне заслуживающую признания с его черной кожей и со всеми его недостатками, если они отыщутся. Как может человеческий образ восприниматься иначе, чем одно целое, если он являет собой законченную личность?
Но сплошь и рядом привязанность фермеров к старым верным слугам ограничивалась тем, что после задумчивого посасывания дедовской трубки все-таки изрекалось неизбежное суждение: «Ja, maar, dokter. ’n Kaffer is mos’n Kaffer» — «Так-то оно так. Но, доктор, кафр всего только кафр». И чувствовалось, что они подозревают и осуждают доктора за его вольнодумство.
Единственным утешением доктора Вреде было то, что молодежь в отличие от стариков все чаще соглашалась вести беседы без этого заключительного: «Кафр всего только кафр».
Он пил кофе на веранде. Старая Рози действительно поднялась сегодня с птицами! Интересно, каким-то он стал, юный Тимоти? У мальчика был очень сдержанный голос, когда он позвонил из Йоханнесбурга. Может быть, просто утомленный, а не сдержанный. «Сохранил ли он чувство меры? И, что более важно, действительно ли из него получился настоящий музыкант? Ради него самого я все это сделал? Доброжелательный деспотизм? Или себялюбие? Не любование ли собственным «я» толкает человека на великодушные поступки? Не послужило ли мотивом этому намерению мое собственное тщеславие? Неужели в основе счастья, которым насладится Тимоти, играя, и я сам, и все те, кто будет слушать его игру, — неужели в основе счастья лежит это? Сделал бы я то же самое для какого-нибудь белого ребенка? И это ложится в вину тоже? В этом суть? Пусть оно встанет на ноги, во весь рост, это намерение, этот поступок, и будет судимо теми, у кого есть глаза. А с меня хватит того, что я могу сидеть здесь и хорошо себя чувствовать. Может быть, я пытаюсь произвести впечатление на бога? Хотел бы я исполниться такой веры в бога. В этом тоже, вернее в отсутствии такой веры, все старые дядюшки и тетушки с дальних ферм могут найти у меня уязвимое место.
Кофе был крепкий и сладкий. Этот Бильон прекрасный человек. При том, как все повернулось в мире, бедняге Бильону не позавидуешь, он попал в самое пекло. А ведь он скорее человек старого мира, умеренная твердость при всей полноте его величества закона. Величество? Должен быть какой-то синоним этому понятию и в республиканском государстве. Законникам следовало бы заняться подысканием такого синонима. Старина Бильон со своей жалкой половиной и пятью прелестными детишками…
Солнце ласково пригревало доктора. Он почти задремал, когда чуткое ухо уловило вдруг нежные звуки музыки, еще неясные и почти сливающиеся с тихим жужжанием пчел в саду.
Мелодия нарастала мерно и сдержанно, она подкрадывалась к доктору. Вот она поднялась и теперь парила в воздухе секунду, другую… пять секунд и так же неожиданно заскользила прочь в призрачном замирающем адажио.
Доктор сидел, опустив голову на грудь, и слушал. Затем чуть повернул голову, и у него на губах заиграла улыбка.
Он опустил ноги с перил веранды и покосился через плечо в угол, где сучковатое персиковое дерево раскинуло прохладную тень.
Это уже было когда-то, давным-давно. Он повел головой, по-петушиному наклонив ее влево, пригляделся.
«Птичка, — посмеялся он над собой. — Птица». Он даже видел перышко, гордое и яркое, как солнце, оно мелькнуло в листве у него за спиной… А он подумал, что это птичка… Он усмехнулся. Теперь он разглядел — это была зеленая шляпа.
Читать дальше