«Паук полз по стене, и он видел этого паука, хотя было совсем темно. Хотя лежал с закрытыми глазами. И он знал, что тут есть стена. Это было уже много.
— Марго!.. — позвал он.
Никто не ответил.
— Марго… паук…
— А сам?
— Не могу. Не достану.
Он поднял руку, вернее — попытался поднять. Но, хотя и чувствовал, что рука эта там, где ей надлежит быть — сбоку, ниже плеча, — не мог и пошевелить ею. Пальцы не гнулись. Колени тоже. Все замерло.
— Он задушит меня, Марго!
Полная тишина.
— Марго, он задушит!
— Не задушит. Если Даубарас не задушил…
— Даубарас? Этот чурбан Даубарас! За что? За что? Ведь я передал его письмо… Ведь я оставил Мету ему! Оставил! Оставил! За что ему душить меня… Даубарасу?.. Да где я? Где? Марго, Мета, — где?..»
Женщина оторвала взгляд от бумаги, от листов, разложенных, как карты у гадалки, на коленях. Оглянулась, будто чего-то искала в комнате, — может, голос, который только что услышала: «Марго, Мета, — где?..»
«Здесь, все здесь да здесь, — шевельнулись губы — сухие, бледные, даже синюшные, — куда мне деваться…» И попыталась устроиться поудобнее — в широком и глубоком кресле за столом, заваленным бумагами, книгами, папками, чернильницами, скрепками, дыроколами и прочим хламом, под широким; желтым колпаком торшера, где она сидела, подобрав к самому подбородку колени, обтянутые синим шерстяным тренировочным костюмом; глаза блестят, даже горят. Но не от любопытства и не от волнения от захватывающего чтения — в них светятся лишь колючие, тусклые, застывшие в уголках льдышки угрюмого безразличия; ей и впрямь зябко. «Брр…» — ежится, еще раз пробегает глазами шуршащие под рукой страницы, — может, видит паука, мохнатого и рыжего, а может, что-то вспоминает, совсем иное: скоро три… Уже три — стрелка движется неумолимо, маятник отбрасывает неприветливые осенние блики, секунды тикают глухо, как судьба. Какая? Чья? Три… Женщина тряхнула волосами — давно не чесанными, беспорядочно свалявшимися, жирными, с серым налетом, — поправила их, равнодушным движением усталого человека отвела их с глаз и снова склонилась над листками. Три часа…
«Он раскрыл рот и попытался крикнуть громче, но тут увидел ее — Марго, даже не Марго вовсе, а Мету, которая вошла — вбежала бегом — и одним махом смела со стены поганого паука — разбухшего, волосатого, с множеством ног и щупалец, с четким желтым крестом на спине; глаза у паука тоже были желтые, выпученные, отвратительно безобразные; почему-то у него было круглое человеческое лицо, и улыбка — теперь она пялилась с некрашеного, но добела вытертого деревенского пола.
— Я говорила: не пей.
«Марго? Мета? Нет, Соната; говорила тебе — не пей. Откуда она здесь?»
— Слушай, где я?
— Не все ли равно!
«Не Соната. И не Мета. Кто?»
— Все равно.
— Как все равно?
— Так.
«И не Марго, черт побери!»
— Что?!
— Все равно.
— Нет! Нет! Нет!.. — Он напрягся и попытался сесть, но ощутил дикую, резкую боль в боку — будто насквозь проткнули чем-то горячим и очень острым — и, даже не подняв головы, рухнул назад. — Нет! Нет! Не-ет!..
Пошевельнулся и сообразил: на телеге. Он лежит на подводе, весь закиданный сеном и соломой, как жердь на сеновале, и сам чувствует, как задыхается от пыли и духоты и как кто-то тычет в него острым; тычет словно не в него, а в кого-то другого, но боль он ощущает; телега грохочет и подпрыгивает на мостовой — точно катится по капустным кочанам, рассыпанным по лесу, а то и по сахарной свекле — много ее в здешних краях; он валяется под сеном или под соломой, которая колет лицо, царапает глаза, в пыли и духоте, а острые раскаленные спицы вонзаются в его тело, в его, его, не чье-нибудь — разве чувствуешь боль, когда колют не тебя, а другого? разве тогда больно? — протыкают, точно шкварку вилкой, норовя поддеть и вытащить из этого сена — вон из этой телеги; в глазах потемнело, зубы так и вдавились в десны.
— Убирайтесь! А ну, пошли отсюда! Собаки! Пьяные рыла!.. — расслышал он и понял, что кричит она — та женщина, которая подобрала его на дороге, когда бойцы отряда велели обождать и когда он, так и не дождавшись их до самого вечера, выполз из-за куста можжевельника и попросился, чтобы подвезла эта молодая, круглолицая, закутанная в большой пестрый плат женщина; глаза у нее были удивленные и светлые — задумчивые и малость испуганные глаза уроженки лесистой Сувалкии. «Да побыстрей ворочайся ты, быстрей, студент…» Студент? Почему «студент»? «Все вы такие! Быстро! Быстро!» — повторила она и хлестнула лошадей; те дернули телегу кверху и припустили во весь опор, брызнули мелкие камешки, посыпались искры. «Быстрей!» Но они догнали, те, что палили, а то и другие, ожидавшие в засаде; уже за лесом, в темноте, остановили. Кто?.. Начене. Кто-кто? Оне, что ли? Пора бы знать в лицо. Ишь чего, упомнишь вас всех. Да уж не всех. Всех! Чего везешь? Давай повежливей, бабонька, гробы нынче недешевы. Спроси у Райниса, он тебе скажет, почем. Какого тебе Райниса, ягодка? Того самого, пора знать. Какого тебе еще Райниса, холера тебя возьми, пошуруй, Раполас, душа моя, в сене-то… Крепче, крепче, веселей, добрый молодец, вдруг там бекончик… или бидончик… Не лезь, зараза! Пошел! Ах ты, сука патлатая, да за такие слова… Заразы! Собаки! Пьяные рыла! Вот я Райнису! Райнису? Что, ты его знаешь?! Братцы, да ведь это… братцы, это же сама… язва… его бабонька, говорю… А!..
Читать дальше
![Альфонсас Беляускас Спокойные времена [Ramūs laikai] обложка книги](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-cover.webp)




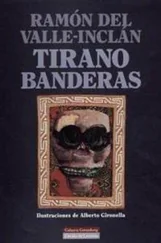
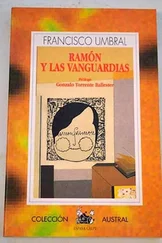

![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)



