Вдруг она вздрогнула, эта женщина в кресле, похожая на птицу в гнезде, широко раскрыла глаза: шаги? На улице? И будто кто-то в темноте ищет ощупью дверную ручку… Кто?
«Кто там?» — захотела крикнуть, медленно поворачиваясь к двери, но промолчала. Ясное дело, послышалось. Померещилось. Бывает и так. И иначе. Все от одиночества.
Говорят: завести кота. Лучше всего — сибирского, хвост трубой, а за неимением сойдет и простой. Все-таки живая тварь. Все-таки знаешь: дышит рядом. И ты не одна дома. Или собаку. Нет, та много лает, а ты и так вздрагиваешь от каждого шороха. От скрипа двери. От стука ставни. От телефонного звонка, от него постоянно: все-то тебе кажется, что сообщат что-нибудь страшное; от покашливания в кулак, от шелеста деревьев, от… От всего на свете! И всегда. Давно… С тех пор…
Нет, нет, нет! Нельзя обо всем сразу… Человек может вытерпеть многое, но только тогда, когда это нужно. Когда без этого нельзя. А пока…
Лучше скажи; зачем ты здесь? В этой комнате? Зачем засела и ждешь, чего ждешь? Зачем волнуешься, злишься? Что от этого изменится? И почему не наверху, в гостиной, не в спальне, не в кухне. Ведь и там светло, ты оставила свет, потому что тебе всегда кажется, что если вдруг пожалует та самая… безносая с косой, то не осмелится при электрическом свете…
Фу-ты… ну-ты! Поехала! Остановись, душа моя, не забывай: ты совсем одна… думай о чем-нибудь другом… Как советуют врачи: о чем-нибудь другом…
О чем?
Этого они мне не говорят, этого и они не знают…
И лишь в одной комнате — там, наверху, — темно. Как всегда. И — как всегда — я стараюсь туда не заглядывать, потому как там… Да там от одного лишь табачного смрада… от противного густенного дыма можно лишиться сознания… Так и случилось однажды, хотя об этом я и не заикнулась ни ему, ни ей. Встала сама. Меня вырвало. Я растерла виски спиртом. Сама легла в постель. Сейчас, проходя мимо комнаты, стараюсь туда не заглядывать, чувствую, как вот-вот вывернет наизнанку… и сразу мерещится, что там… что там и подстерегает меня нежеланная гостья… которая уже однажды снилась… и как раз в той комнате…
Пора принять таблеточку, дорогая. Самое время. Пожалуй, ту, от бессонницы, а то и…
Ах, знаю, знаю. Давно знаю, от чего. И еще знаю, что никакая таблетка не снимет моей боли. Больше помогает смех — когда сама над собой посмеешься. Над своими иллюзиями. Над неудавшейся жизнью. Над собственной слабостью. Едкий, иронический, горький, как полынь: пусть раздирается рот в улыбке, пусть хоть кишки вывалятся наружу… Но смех этот должен быть злее боли — той, что долгие годы угрюмо и безжалостно, как червь точит дерево, сверлит, грызет несчастное сердце; уж поверьте, горше нее ничего на свете…
Что ж, дорогая, таблетка проглочена, а что толку…
«Мета, Мета! Марго! Марго! Ме-е-та-а!»
Даже имена не меняет. Все оставил. Почему. Зачем?
Пальцы сами заерзали среди листов, будто пытаясь нащупать все эти скулы, щеки, носы, глаза вынырнувших из прошлого людей. Она не читает дальше — зачем? — она видит. Смотрит широко раскрытыми, потускневшими глазами, из которых годы вытравили влажно-фиалковую синеву, которая так нравилась всем (остались одни воспоминания), и отчетливо видит: куст можжевельника, за ним прячется длинноногий парнишка (из Каунаса, из Каунаса он), видит и каменистую, будто заваленную сахарной свеклой, дорогу (о, сколько хожено!), серую тьму, мириадами свинцовых брызг хлынувшую на лес, видит сувалкийскую пароконную телегу… И эту тетку в пестрой деревенской шали с бахромой — не только еще не старую, но даже совсем молодую, круглолицую, смазливую бабенку; и лошадей, и пар, что валит от их морд; и телегу — с длинным, далеко выпирающим вперед дышлом, крепкую телегу, с широкими грядками, меж которых можно уместить хоть два свиных закута, а на поддугах, прямо на гремящих досках, под ворохом сена и соломы — да еще придавленный попоной — судорожно сжимает в руке никчемный редакционный «вальтерок», испуганный, скорченный, весь поглощенный одной-единственной мыслью — выжить; он ежится…
«Кто такой?..» — завела разговор Ирка.
«Этот самый, слыхала? Ну, из Каунаса. Корреспондент».
«Тот, что, говорят, выпивает?..»
«А кто в наше время не пьет, скажи? Какой мужчина?»
«Да хотя бы твой Винцукас. Никогда не видела, чтобы он…»
«Верно. Винцукас другой…»
«Получше?»
«Сама знаешь, какой».
«Знаю: чудной. Хотя сразу видно — талантливый… Послушай, Мартушка, а он, случаем, тебе письма… в стихах… Ну, Винцукас твой…»
Читать дальше
![Альфонсас Беляускас Спокойные времена [Ramūs laikai] обложка книги](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-cover.webp)




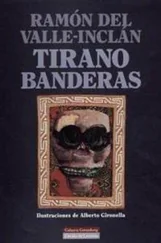
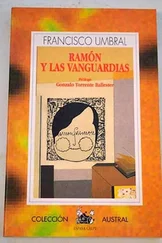

![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)



