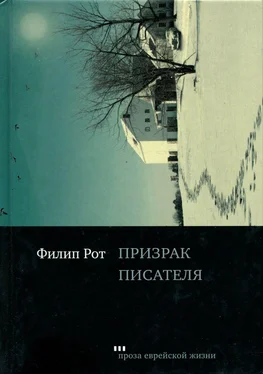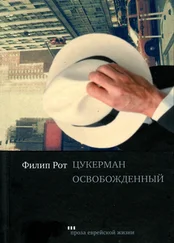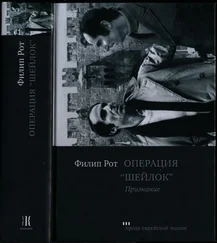А когда люди наконец все поймут? Когда они осознают, что у нее хватило силы научить их чему-то, что тогда? Будут ли они воспринимать страдания по-новому? Сможет ли она действительно сделать их более человечными — и не только на те несколько часов, пока они будут читать ее дневник? В своей комнате в «Афине», спрятав в комоде три экземпляра « Het Achterhuis», она думала о своих будущих читателях куда спокойнее, чем в автобусе, в бушующую грозу. Она ведь уже не была той пятнадцатилетней девочкой, которая, прячась от смертельной опасности, могла написать Китти: «Я до сих пор верю в доброту человеческой души». Ее юношеские идеалы выстрадали все то, что выстрадала она в товарном вагоне из Вестерброка, в бараках Аушвица, на пустоши в Бельзене. Она не возненавидела человечество за то, какое оно — да и каким оно могло быть, только таким, как есть, — но и петь ему хвалу у нее желания не было.
Что произойдет, когда люди наконец все поймут? Реалистичный ответ один — ничего. Верить во что-либо еще значило бы питать надежды, в которых даже она — а она умела надеяться — теперь имела право сомневаться. Держать свое существование в тайне от отца, чтобы сделать человечество лучше… Нет, теперь уже поздно. Улучшать их жизнь — их дело, не ее; они могут улучшать себя, если им так заблагорассудится, а нет — так нет. Она ответственна перед мертвыми — перед сестрой, мамой, перед всеми уничтоженными школьниками, которые были когда-то ее друзьями. Вот цель ее дневника, вот ее предназначение: в напечатанном слове сделать их снова живыми… хоть им это и не поможет. На самом деле ей хотелось орудовать не печатным словом, а топором. На лестничной клетке в конце коридора в ее корпусе висел здоровенный топор с огромной красной рукоятью — на случай пожара. А если на случай ненависти — как насчет смертельной ярости? Она часто на него смотрела, но у нее никогда не хватало духу снять его со стены. А окажись он у нее в руках, чью голову ей бы захотелось раскроить? Кого она могла убить в Стокбридже, чтобы отомстить за прах и черепа? Это еще если бы она смогла им орудовать. Нет, у нее другое орудие: «Het Achterhuis», van Anne Frank. И чтобы она могла им ранить до крови, ей придется снова исчезнуть, в другом убежище, на сей раз без отца, в одиночку.
Поэтому она укрепилась в вере в свои триста без малого страниц, а с ней и в решимости утаить от отца в его шестьдесят, что она выжила. «Ради них, — воскликнула она, — ради них», — имея в виду тех, кого настигла миновавшая ее судьба, ради них она и притворялась. «Ради Марго, ради мамы, ради Лис».
Теперь она каждый день ходила в библиотеку, читала «Нью-Йорк таймс». Каждую неделю она внимательно просматривала журналы. По воскресеньям читала все о новых книгах, выходящих в Америке: о романах, называемых «заметными» и «значительными», — но вряд ли они были более заметными и значительными, чем ее посмертно опубликованный дневник; о никчемных бестселлерах, из которых настоящие люди узнавали о придуманных, которых в жизни существовать не могло, да и существуй они, это ни на что не повлияло бы. Она читала хвалебные отзывы об историках и биографах, чьи книги, сколь бы ни были хороши, вряд ли были достойны признания так, как ее дневник. И в каждом обзоре в каждом журнале, который имелся в библиотеке — американском, французском, немецком или английском, она искала свое настоящее имя. Не могло же все ограничиться тем, что несколько тысяч голландских читателей покачали головой и вернулись к своим делам — слишком уж важной была ее книга. «Ради них, ради них» — снова и снова, неделю за неделей, «ради них» — пока она наконец не подумала: а вдруг то, что она выжила в убежище, не погибла в лагерях смерти, скрывается здесь, в Новой Англии, под чужой личиной, делает это яростное желание «вернуться» в роли призрака отмщения чем-то весьма подозрительным и слегка безумным. Она стала опасаться, что поддается своей установке не поддаваться.
И что с того? Она же пыталась притвориться той, которой и была бы, не случись убежища и лагерей смерти. Эми не была другой. Та Эми, что спасла ее от ее воспоминаний и вернула к жизни, — привлекательная, здравомыслящая, смелая и практичная Эми — это и была она. И имела полное право быть такой. Ответственность перед мертвыми? Резонерство для ханжей! Мертвым дать нечего — они мертвы. «Вот именно. Так называемое значение этой книги — болезненная иллюзия. Изображать из себя мертвую — напыщенно и отвратительно. А прятаться от папы и того хуже. Не нужно никакого искупления, — сказала Эми Анне. — Позвони Пиму и скажи, что ты жива. Ему уже шестьдесят».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу