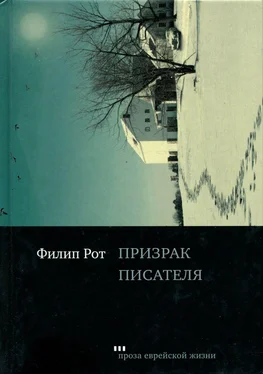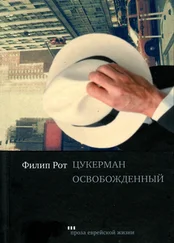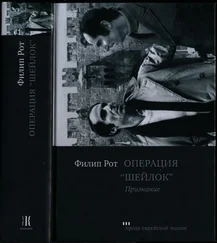Она тосковала по нему еще сильнее, чем в детстве, когда больше всего на свете хотела, чтобы он любил только ее. Но она молодая, сильная, она жива, у нее увлекательная жизнь, но она ничего не предприняла, чтобы сообщить ему или кому-то еще, что она жива; а ведь может оказаться слишком поздно. Никто бы ей не поверил, никто, кроме отца, не захотел бы поверить. Теперь люди каждый день приходили в их тайное убежище, смотрели на фотографии кинозвезд, которые она повесила у себя над кроватью. Они приходили смотреть на таз, в котором она мылась, на стол, за которым она занималась. Они смотрели из чердачного окна, где Петер и она сидели в обнимку, любуясь звездами. Они разглядывали шкаф, маскировавший дверь: через нее вошли полицейские, чтобы их увести. Они смотрели на открытые страницы ее тайного дневника. Это ее почерк, шептали они, это ее слова. Они разглядывали в убежище все, до чего она дотрагивалась. Скромные коридоры и обустроенные комнатки, которые она, как прилежная ученица в сочинении, описывала Китти четкими, понятными, будничными голландскими фразами — суперпрактичное убежище стало теперь местом поклонения, Стеной Плача. Они уходили оттуда в молчании — скорбели, будто она была им родной.
Но это они были ей родными. «Они плакали обо мне, — сказала Эми, — они жалели меня, молились за меня, просили у меня прощения. Я стала воплощением миллионов непрожитых жизней, украденных у убитых евреев. Сейчас поздно становиться живой. Я стала святой».
Такую она рассказала историю. И что подумал Лонофф, когда она закончила свой рассказ? Что она готова поручиться за каждое слово, но ни одного слова правды там не было.
Эми приняла душ, оделась, выписалась из отеля, и он повел ее пообедать. Из ресторана он позвонил Хоуп и сообщил, что привезет Эми домой. Она будет гулять по лесу, смотреть на опавшую листву, спокойно спать в кровати Бекки; а через несколько дней сможет собраться с силами и вернется в Кеймбридж. О ее срыве он сказал, что, по-видимому, она переутомилась. Он пообещал Эми, что больше ничего не расскажет.
По дороге в Беркширские горы, пока Эми рассказывала ему, каково ей было все эти годы, когда ее читали на двадцати разных языках двадцать миллионов человек, он решил, что нужно проконсультироваться с доктором Бойсом. Бойс работал в Риггзе, психиатрической больнице Стокбриджа. Всякий раз, когда выходила новая книга, доктор Бойс присылал милое письмо Лоноффу с просьбой подписать ему экземпляр, а раз в год его с Хоуп приглашали к Бойсам на большое барбекю. Однажды по просьбе доктора Бойса Лонофф нехотя согласился прийти на семинар для сотрудников больницы, обсудить «творческую личность». Он не хотел обижать психиатра, к тому же это могло на время успокоить его жену — ей хотелось верить, что, если он чаще будет встречаться с другими людьми, в доме станет поспокойнее.
Выяснилось, что у участников семинара есть свои — слишком фантазийные на его вкус — соображения о писательстве, но он не стал доказывать им, что они ошибаются. Да и не был так уж уверен, что он прав. Они видели это по-своему, он видел как Лонофф. И точка. У него не было никакого желания кого-то переубеждать. Литература заставляет людей говорить всякие странности — так что пусть уж так и будет.
Встреча с психиатрами длилась всего час, когда Лонофф сказал, что вечер был очень приятный, но ему пора домой. «Мне еще предстоит вечернее чтение. Не почитав, я сам не свой. Впрочем, вы можете обсудить мою личность и без меня». Бойс, ласково улыбнувшись, ответил: «Надеюсь, мы хоть немного развлекли вас своими наивными рассуждениями». — «Это мне было бы приятно вас развлечь. Прошу прощения, что был так скучен». — «Нет-нет, — сказал Бойс, — пассивность в столь уважаемом человеке имеет собственное очарование и загадку». — «Да? — сказал Лонофф. — Надо рассказать об этом жене».
Но потраченный пять лет назад впустую час ничего не определял. Он доверял Бойсу и понимал, что психиатр не предаст его доверия, поэтому на следующий день он пошел поговорить с ним о своей бывшей ученице и псевдодочери, молодой женщине двадцати шести лет, которая открыла ему свою тайну: из всех еврейских писателей, от Франца Кафки до Э. И. Лоноффа, она самая знаменитая. А то, что он сам предал доверие своей псевдодочери, большого значения не имело, поскольку Эми, находясь в плену своих бредовых иллюзий, выдавала все новые подробности.
— Знаешь, почему я взяла такое милое имя? Не для того, чтобы оградить себя от воспоминаний. Я не прятала ни прошлое от себя, ни себя от прошлого. Я пряталась от ненависти, от тяги ненавидеть людей так, как люди ненавидят пауков и крыс.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу