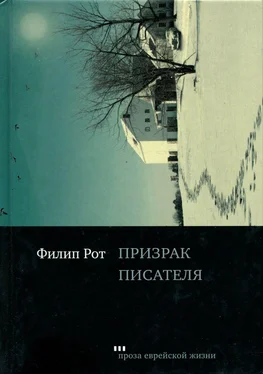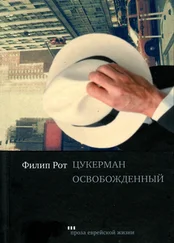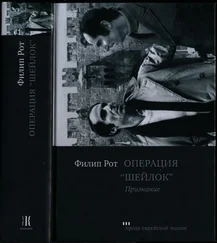Мы говорили о литературе, и я был на седьмом небе, а также весь в поту — от внимания, которым он меня окружил. Каждую новую для меня книгу он наверняка давным-давно проработал с карандашом, однако он подчеркнуто интересовался моими соображениями, а не своими. Купаясь в его сосредоточенном на мне внимании, я выдавал одно незрелое наблюдение за другим, а потом, опираясь на каждый его вздох, на каждую гримасу, истолковывал то, что было лишь легким приступом несварения после ужина, как его оценку моего вкуса и ума. Я хоть и беспокоился, что слишком уж стараюсь рассуждать как глубокий мыслитель — к ним он не был расположен, — но не мог остановиться, находясь теперь под чарами не только человека, перед чьими достижениями я преклонялся, но и тепла пылающих поленьев, бокала с бренди в моей руке (но еще не самого бренди) и снега, тяжело падавшего за окнами с широкими подоконниками в подушках, — прекрасного и таинственного. Были и завораживающие имена великих писателей — их я произносил с придыханием, раскладывая у его ног свои кросс-культурные сравнения и новоиспеченный эклектичный энтузиазм; Цукерман с Лоноффом обсуждает Кафку — я не мог этого до конца осознать, тем более переварить. А был еще тост, произнесенный им за ужином. Стоило мне его вспомнить, и меня бросало в жар. Я клялся себе, что до конца жизни буду бороться за то, чтобы стать достойным его. Не поэтому ли он, мой новый безжалостный властелин, его произнес?
— Я только что дочитал Исаака Бабеля, — сказал я ему.
Он выслушал это безучастно.
— Я вот подумал, просто из интереса, не он ли недостающее звено? Эти рассказы — они соединяют вас, надеюсь, вы не возражаете, что я коснусь и ваших произведений…
Он сложил руки на животе и так их там и оставил, и этого жеста было достаточно, чтобы я сказал:
— Извините.
— Продолжайте. Соединяют с Бабелем. Как?
— Ну, «соединяют», конечно, не совсем точное слово. Как и «влияние». Я имею в виду фамильное сходство. Как я это вижу, получается, будто вы — один американский кузен Бабеля, а Феликс Абра-ванель — второй. Вы — через «Иисусов грех» и кое-что из «Конармии», через ироничные мечтания и прямолинейное изложение, и, разумеется, через само сочинительство. Вы понимаете, о чем я? В одном из его военных рассказов есть фраза: «Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади». Так вот, вы именно это и делаете — в каждой строчке изумительная картинка. Бабель говорил, что, если когда-нибудь напишет автобиографию, назовет ее «История одного прилагательного». Если вообразить, что вы пишете автобиографию — если такое можно хотя бы вообразить, — вы бы тоже выбрали такое название. Или нет?
— А Абраванель?
— А Абраванель — это Беня Крик и одесские воровские шайки: лихость, бандиты, все эти невероятные характеры. Он не то чтобы сочувствует злодеям — этого в Бабеле тоже нет. Это о трепете, с которым на них смотрят. Даже трясясь от ужаса, но все равно с трепетом. Глубоко мыслящие евреи, немного возбуждающиеся при неталмудическом звуке хрустящих костей. Чуткие еврейские мудрецы, как говорит Бабель, которые хотят лазать по деревьям.
— «В детстве я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям».
— Да-да, именно эта фраза! — Я хоть и ожидал чего-то подобного, был впечатлен. И продолжил: — Возьмем «Хорошо ошпарить» Абраванеля. Кинобонзы, профсоюзные бонзы, бонзы рэкета, женщины — бонзы просто за размер бюста, даже опустившиеся бродяги, которые некогда были бонзами, они — бонзы среди опустившихся. Это бабелевское — его завораживают преуспевшие евреи, наглые казаки, все, кто живет по-своему. Воля как главная идея. Но только Бабель не выставляет себя таким положительным и важным. Он видит все по-другому. Он — Абраванель, из которого отжали поглощенность собой. А если отжать ее как следует, в конце концов получается Лонофф.
— А что насчет вас?
— Насчет меня?
— Да. Вы не закончили. Вы сам разве не американский кузен из бабелевского клана? Кто в этом всем Цукерман?
— Да никто. У меня напечатано только те четыре рассказа, которые я вам посылал. Я не имею отношения ни к кому. Мне кажется, я пока что в той точке, когда и моего отношения к моей собственной работе практически нет.
Сказав это, я тут же потянулся к бокалу, чтобы скрыть за ним свою лицемерную физиономию и ощутить на языке горький вкус бренди. Но Лонофф отлично прочитал мои хитроумные мысли; ведь когда я прочитал бабелевскую фразу о еврейском писателе, у которого на носу очки, а в душе осень, она вдохновила меня на продолжение: «а кровь прилила к пенису», и я записал себе эти слова, эту пламенную дедаловскую формулу я хотел выковать в кузнице моей души [9] Цукерман цитирует слова Стивена Дедала, героя романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности».
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу