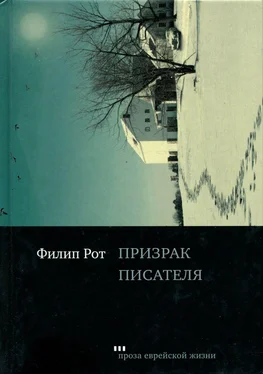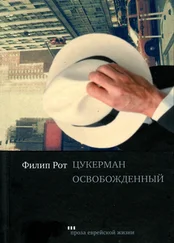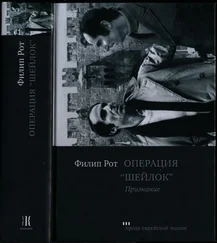Хоуп Лонофф тяжело опустилась на стул, решив обратиться к мужу через стол. Лицо ее было в пятнах — там, где она в припадке самоуничижения расчесывала дряблую, морщинистую кожу. Судорожные, нервные движения ее пальцев встревожили меня еще больше, чем страдание в ее голосе, и я подумал, не убрать ли сервировочную вилку со стола — не ровен час она воткнет ее зубцами в грудь и тем самым даст лоноффскому «я» свободу поступать так, как, по ее мнению, ему было нужно. Но поскольку я был всего лишь гостем — я почти во всем был «всего лишь», я не стал трогать столовые приборы и приготовился к худшему.
— Возьми ее, Мэнни. Хочешь ее — так возьми, — причитала она, — и тогда ты перестанешь быть таким несчастным, и все в мире перестанет быть таким тусклым. Она больше не студентка, она — женщина! Ты имеешь на нее право — ты вызволил ее из небытия, ты больше чем имеешь право: это единственное, в чем есть смысл. Скажи ей, пусть соглашается на эту работу, скажи, пусть остается! Она должна так поступить. А я уеду! Потому что я больше ни секунды не могу оставаться твоей надзирательницей! Твое благородство пожирает последнее, что осталось! Ты — памятник, ты можешь все сносить, а я, я — почти ничто, дорогой, и я не могу. Прогони меня! Прошу, сделай это сейчас же, прежде чем твоя порядочность и твоя мудрость погубят нас обоих!
* * *
После ужина мы с Лоноффом сидели вдвоем в гостиной, потягивая с достойной восхищения сдержанностью столовую ложку коньяка, который он разлил по двум большим бокалам. Прежде я пробовал коньяк только как временное домашнее средство от зубной боли: в нем вымачивали ватку, которую я держал на пульсирующей десне, пока родители не доставили меня к дантисту. Однако я принял предложение Лоноффа так, будто у меня вошло в привычку пить после ужина. Комизм усилился, когда мой хозяин, еще один выпивоха, пошел искать подходящие бокалы. Осмотрев всё, он в конце концов обнаружил их у задней стенки нижнего отсека подсервантника в холле.
— Подарок, — объяснил он. — Я думал, они еще в коробке.
Он отнес два бокала на кухню — смыть пыль, которая, похоже, копилась на них со времен Наполеона, имя которого значилось на закупоренной бутылке. А потом решил заодно помыть и четыре остальных бокала из набора и убрать их обратно, и только после этого вернулся ко мне — веселиться у камина.
Немногим позже — минут через двадцать после того, как он отказался хоть как-то реагировать на мольбы заменить ее Эми Беллет, — стало слышно, как Хоуп возится на кухне, моет посуду, которую мы с Лоноффом молча убрали со стола, когда она нас покинула. По-видимому, из их спальни она спустилась по задней лестнице — наверное, чтобы не мешать нашей беседе.
Помогая ему убирать посуду, я не знал, что делать с разбитым бокалом и блюдцем: его она случайно смахнула на пол, когда выскочила из-за стола. Будучи тут в амплуа инженю, я, очевидно, должен был избавить дородного человека в костюме от необходимости наклоняться, тем более что это был Э. И. Лонофф; с другой стороны, я все еще пытался делать вид, будто ничему кошмарному свидетелем не был. Чтобы не придавать этой истерической выходке слишком большого значения, он, наверное, даже предпочел бы, чтобы осколки остались там же и Хоуп потом убрала их сама — если прежде не наложит на себя руки в спальне.
Но пока мои представления о нравственных тонкостях и моя юношеская трусость боролись с моей наивностью, Лонофф, покряхтывая от натуги, смел осколки на совок и выудил блюдце из-под стола. Оно раскололось ровно пополам, и, осмотрев края, он сказал:
— Она может его склеить.
В кухне он положил блюдце ей на починку на длинный деревянный стол под окном, где в горшках росла розовая и белая герань. Кухня была светлая и приятная, чуть веселее и живее остальных комнат. Кроме герани, буйно цветущей даже зимой, в кувшинах, вазах и разномастных бутылках стояли травы и сухие цветы. Яркие застекленные полки выглядели мило и уютно, все продукты были безукоризненных марок: тунца «Бамбл би» хватило бы семье эскимосов в иглу, чтобы продержаться до весны, а банки с помидорами, бобами, грушами, дикими яблоками и так далее, похоже, Хоуп заготовила сама. Кастрюли и сковородки — дно каждой сияло начищенной медью — висели рядами около плиты, а на стене за обеденным столом было с полдюжины картинок в простых деревянных рамах: это оказались короткие стихотворения о природе с инициалами «X. Л.», переписанные изящным почерком и украшенные акварельными рисунками. Это действительно был штаб женщины, которая, держась тихо и скромно, могла склеить что угодно и сделать что угодно, вот только не могла придумать, как сделать мужа счастливым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу