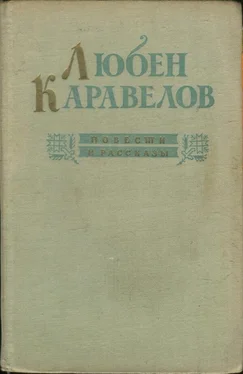— Знать ничего не знаем. Хотим по домам, — раздались голоса.
— У меня овцы доиться перестали. Придется годовалых продавать, чтобы десятину заплатить: ни брынзы, ни масла ни драхмы [71] Драхма — греческая денежная единица.
нет, — сказал один.
— А у меня луга стоят некошены, — подхватил другой.
— А у меня буйволы, дьявол их знает, куда разбрелись, — промолвил третий.
— Домой, домой! — закричали все.
— Братья! Подождите хоть, когда наши люди придут, которых мы в Видин и Царьград послали. Послушаем, что они нам скажут? Чего они там добились? Долго терпели, потерпим еще несколько дней. Бог даст, может, все хорошо кончится. Подождем посланных.
— А ежели они не придут? Ежели их повесили или в тюрьму посадили? Тогда что? — закричала толпа.
— Давайте подождем еще неделю, — и ежели не вернутся, тогда ладно: вернемся в Белоградчик и сдадимся туркам. Согласны?
Долго бились мой отец и поп Кристю, уговаривая товарищей подождать еще неделю, но в конце концов добились.
В одно прекрасное утро, когда мы еще спали, наши посланные вернулись из Царьграда с письмом, которое они подали отцу. Отец велел мне разбудить товарищей, распечатал письмо и прочел его вслух. Оно гласило:
«Али-Махмед-эфенди, окружной начальник в г. Белоградчике, вызывается в Царьград, а также вызывается и видинский архиерей Григорий — для ответа за свои злоупотребления. В Белоградчик направляется комиссия, которая установит, на что болгары жалуются, и удовлетворит их требования. Царьград, 3 июня 1848 года».
Не могу передать, как мы обрадовались этому письму. Только отец мой был недоволен.
— Не этого ждал я, — сказал он. — Видно, еще придется нам пострадать! Долго еще будем мы носить турецкие оковы! Но Никола-кожевник не склонит голову перед турками, не станет целовать край одежды у муфтия [72] Муфтий — магометанский священник.
. Да здравствует Стара-планина!
— Отец! — сказал я. — Ты поднял это движение, ты должен довести его до конца. Не покидай народ, иди с ним и давай ему добрые, полезные советы.
— Хорошо, сынок, я пойду с вами. А когда вы устроите свои дела, возьму ружье и тоже займусь делом.
— И я с тобой, — сказал я.
Того, что нам пришлось пережить по возвращении в Белоградчик, невозможно передать: для этого не хватило бы тысячи и одной ночи. Достаточно сказать, что, как только мы появились в городе, турки напали на нас, сожгли наши дома и перебили множество народа. Увидев, что турки их обманули, наши сограждане взялись за оружие, но было уже поздно…
Отца моего турки повесили, а меня отвезли в Царьград и посадили в Терезхану [73] Терезхана — тюрьма в Константинополе.
, где я провел четырнадцать лет.
Однажды туда привезли юношу и посадили его в нашу темницу. Паренек показался мне знакомым. Я спросил его, откуда он и кто его родители. Знаешь, кто это был? Мой несчастный брат. Подросши, он нанялся к турку — прислуживать за столом — и отомстил ему за нашу мать. И окружной начальник тоже пал от руки моего брата.
Несколько лет тому назад меня перевели в Диар-Бекир, а брат остался в Терезхане. Вот и вся моя жизнь!
Кончив свой рассказ, дед Коста тяжело вздохнул и спросил Цено:
— Как ты считаешь, сынок: разве я не заслуживаю жалости? Разве не следует меня заживо оплакивать? Ведь двадцать лет, сынок! Буйвола двадцать лет мучай, так и тот издохнет либо взбесится. Недаром какой-то султан сказал, что болгарин, кошка и женщина — существа живучие. Ведь это правда. Подумай: ну кому приходится терпеть столько мук и насилий, сколько болгарину? Кто так привык к побоям, как болгарин? Кто радуется, когда его ругают, и смеется, когда его бьют? Болгарин. Видал я таких болгар, которые смеются, поют, всякие коленца выкидывают, когда турок их колотит. Видал и таких, которые хвастают, что их ударил или изругал какой-нибудь кадий или жандарм. Ах, сынок, горька наша жизнь, страшно положение, в котором мы находимся, жестока наша судьба! Часто сижу и думаю: «Да воскреснет ли когда-нибудь наша Болгария? Станем ли мы когда-нибудь людьми?» И отвечаю себе: «Не знаю… Иногда мне кажется, — мы погибли». А ты что скажешь, Цено? Неужели с нами, болгарами, уже покончено?
Цено приподнялся, взглянул на небо, тяжело вздохнул — две слезы покатились у него из глаз. По лицу было видно, как ему тяжело на душе.
— Ах, будь они прокляты! Трижды прокляты! — воскликнул он.
— Кого ты проклинаешь, сынок? — спросил дед Коста.
Читать дальше