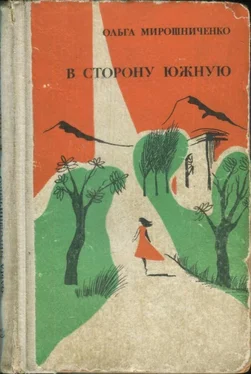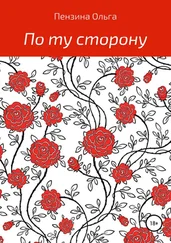— Да нет. Он всякий. А как начальник стройки — так лучше, наверное, не бывает, знаешь, уж на что работяги…
— Во-во. Небось начальственную заботу и решил проявить, мол, как устроились и не нужна ли помощь. Знаем мы эту заботу к одиноким и красивым. Тебе не холодно?
— Нет. Я дверь забыла запереть.
— Я закрою.
Простились наспех, на работу уже опаздывала, даже в «Теремок» не успела забежать, детей проведать. Простились так, будто вечером снова должны были увидеться. Галина не хотела слышать слов особенных, прощальных, перебивала тотчас. Не разрешила и до ГЭС проводить, как делал всегда.
Стояла на остановке чужая, озабоченная, вглядывалась в дорогу, туда, где на повороте из-за сопки должен был вот-вот появиться автобус.
По утрам уже чувствовались заморозки, и она мерзла в тонком плаще: покраснел нос, коленки под прозрачными чулками зябко поголубели. Стала вдруг некрасивой, неухоженной, немолодой. Глядя на усталое лицо ее, с темными кругами под глазами, с обозначившимися в беспощадном утреннем свете морщинами на лбу, в углах рта, Максим чувствовал себя убийцей. Как когда-то давно, в детстве, почувствовал, увидев всплывших брюшком вверх, тусклой слизью покрытых рыбок, которым забыл сменить воду в банке, а ведь совсем недавно они были легки, серебристы и проворны.
Подошел автобус, лишь притормозил, не останавливаясь.
— Я с тобой, — сказал Максим торопливо.
— Нет, — ухватила чью-то протянутую руку, вскочила на низкую ступеньку. С противным скрипом сомкнулись двери. Мелькнула в узком стеклышке розовая шапочка, и он остался один. Почему-то подумал нелепое: «Я отблагодарю тебя. За все отблагодарю, вот увидишь».
И отблагодарил. Когда писал сценарий, лучшие слова отдал ей, самую красивую актрису на роль пригласил, а начал снимать — и показалось сентиментально, слащаво, начал переделывать и уже забыл, как думал тогда «отблагодарю», помнил только измученное немолодое лицо, грубые большие руки, старые резиновые ботики, над краем которых виднелась полосочка белых шерстяных носков. Вспомнил, как ела рыбу, жирными пальцами отделяя от костей мякоть, как, смеясь, прикрывала рот ладошкой, по-деревенски, как просила: «Отвернись, пожалуйста».
Многое вспомнил.
Надя после просмотра сказала:
— Не пощадил ты какую-то простушку, ой как не пощадил.
— А тебе б хотелось увидеть принцессу Клевскую, так они там не водятся.
— Зачем принцессу. Но ведь не этнографический фильм об аборигенах с Антильских островов ты хотел снять.
— То, что я хотел снять, я и снял. А как это тебе показалось…
— Мне показалось немножко про аборигенов, — мягко сказала Надя и перевела разговор на другое. Стала хвалить работу с актерами, монтаж.
Хвалила искренне, пылко, но он не простил ей «аборигенов», запомнил крепко, как и шутку, будто невзначай сказанную: «Ты ведь любишь чужие страдания, интересны они тебе».
_____
В море на рейде эсминец стоял,
Матросы с родными прощались.
А море таило покой красоты
И где-то вдали исчезало, —
пел Игнатенко. Галина не заметила, как и отчего изменилась жизнь автобуса, катящего по пустынной степи с невысокими курганами, у подножья которых, как останки допотопных животных, белели огромные валуны. Помстилось, что едут по полю давней, много веков назад свершившейся битвы. И странная песня и высокий, чистый, звенящий голос Игнатенко были неуместны. Но, видно, одна она так чувствовала, остальные пассажиры хранили благоговейное молчание, смотрели на певца с восхищением, даже шофер отодвинул стекло, отделяющее кабину от салона, чтоб слышать песню. Владелица белого пыльника пересела ближе к Игнатенко, записывала слова в маленький блокнотик. Слова были печальными, о матросе, которого никто не провожал, а когда шлюпка отошла от берега, он увидел, что в стороне ото всех стоит девушка. Та, кого любил и чью свадьбу с другим сегодня справляли.
Как все грустные песни, и эта напоминала о чем-то похожем, что было, или казалось теперь, что было. О печальной большой любви и разлуке, о нелепых ошибках и расплате за них одиночеством.
Галина тоже невольно поддалась наивному и прекрасному обману: она думала, что, может, напрасно так горда, так самолюбива была с Максимом. Зачем сказала про Пера Гюнта, зачем оттолкнула от себя, ведь он так одинок, и жена его бросила, и работа не ладится, сам жаловался как-то Саше.
Игнатенко пел много. Пел знакомые Галине украинские песни, те, что любила мать, и другие — заунывные, где не все слова были понятны. По говору определила — карпатские. Не ошиблась. Кто-то спросил:
Читать дальше