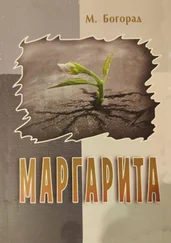Но я была уже возлѣ сестры Мари-Любови. Я такъ стремительно кинулась къ ней, что мы обѣ едва не упали.
Она обняла маня обѣими руками и задрожала вся отъ сильной радости…
Она взяла мою голову и стала цѣловать мнѣ все лицо, какъ маленькому ребенку.
Ея монашескій уборъ шелестѣлъ, какъ бумага, и широкіе рукава спускались до локтей.
Мелани была права: настоятельница видѣла меня, она вышла изъ церкви и шла къ намъ по аллеѣ.
Сестра Мари-Любовь замѣтила ее, перестала цѣловать и положила мнѣ руку на плечо. Я быстро обвила ея талію рукой, боясь, чтобы она не отстранилась отъ меня.
Теперь мы обѣ смотрѣли на настоятельницу, она прошла мимо насъ, не подымая глазъ и сдѣлавъ видъ, что не замѣчаетъ спокойнаго поклона сестры Мари-Любови.
Какъ только она прошла мимо, я увлекла сестру Мари-Любовь къ старой скамейкѣ, она помедлила немного и прежде, чѣмъ сѣсть, сказала:
— Вещи, какъ будто, ждутъ насъ…
Потомъ она сѣла, не прислоняясь къ липѣ; я стала передъ ней на колѣни въ травѣ.
Лучи ея глазъ потухли, и цвѣта слились; все ея тонкое лицо съежилось и какъ будто спряталось въ монашескомъ уборѣ. Ея нагрудникъ не подымался, какъ раньше на груди, и на рукахъ просвѣчивали голубыя вены…
Она мелькомъ взглянула на окно своей бывшей комнаты, скользнула по липовымъ аллеямъ, большому монастырскому двору и, остановивши взглядъ на домѣ настоятельницы, прошептала:
— Надо прощать другимъ, чтобъ намъ прощали!
Переведя затѣмъ свои взглядъ на меня, она сказала:
— Какіе у тебя грустные глаза!..
Она провела рукой по моимъ глазамъ, какъ будто бы стараясь стереть съ нихъ то, что ей не нравилось и, закрывъ ихъ ладонью, снова прошептала:
— Сколько страданій проносится надъ нами!
Она сняла руки съ моего лица, вложила ихъ въ мои и, не сводя съ меня глазъ, голосомъ, полнымъ мольбы, сказала:
— Моя милая дѣвочка, послушай меня, не становись никогда несчастной монахиней.
У ней вырвался долгій вздохъ какъ бы сожалѣнія, и она прибавила:
— Наша монашеская бѣлая и черная одежда говоритъ другимъ, что мы существа силы и свѣта, и всѣ льютъ свои слезы передъ нами и несутъ свои страданія, ища утѣшенія у насъ. Но никому нѣтъ дѣла до нашихъ страданій. Какъ будто у насъ нѣтъ своей жизни…
Потомъ она стала говорить о будущемъ:
— Я отправлюсь туда, куда идутъ миссіонеры. Я поселюсь въ домѣ, полномъ ужаса. Передъ моими глазами будетъ все уродство, всѣ язвы…
Я слушала ея глубокій голосъ, и въ немъ звучала какая-то беззавѣтная преданность: казалось, что она можетъ взвалить себѣ на плечи страданія всей земли.
Она отняла свои руки отъ моихъ, погладила меня по щекамъ, и ея голосъ зазвучалъ нѣжно, когда она сказала:
— Чистота твоего лица запечатлѣется на всегда въ моей памяти.
И, устремивъ взоръ вверхъ, она прибавила:
— Господь далъ намъ способность помнить, и нѣтъ той власти, которая отняла бы ее у насъ.
Она встала со скамьи, я проводила ее до выхода и, когда Красивое-Око закрыла за ней тяжелую дверь, я долго слышала еще протяжный и глухой стукъ двери.
Въ этотъ вечеръ сестра Дэзирэ позже обычнаго пришла въ нашу комнату; она присутствовала на молитвѣ по случаю отъѣзда сестры Мари-Любови. Та уѣзжала къ прокаженнымъ.
* * *
Еще разъ вернулась зима.
Сестра Дэзирэ скоро замѣтила мою страсть къ чтенію и стала приносить мнѣ книги изъ монастырской библіотеки.
По большей части это были дѣтскія книги, я ихъ читала, пропуская по нѣсколько страницъ. Мнѣ больше нравились разсказы о путешествіяхъ и я читала ихъ при свѣтѣ ночника.
Сестра Дэзирэ, просыпаясь ночью, журила меня, но, какъ только она засыпала, я снова принималась за книгу.
Мало-по-малу нѣжная дружба установилась между нами; ночью мы не задергивали больше бѣлыхъ занавѣсокъ, отдѣлявшихъ наши кровати; мы не стѣснялись больше другъ друга и думали общія думы.
Нѣжная веселость не покидала ее.
Только монашеская одежда печалила ее; она находила ее тяжелой, неудобной, и говорила съ выраженіемъ усталости:
— Когда я одѣваю ее, мнѣ кажется, что я вхожу въ домъ, гдѣ всегда темно.
Вечеромъ она старалась какъ можно скорѣе сбросить ее и была счастлива, когда могла ходить по комнатѣ въ ночномъ костюмѣ.
Она прибавляла съ своей обычной гримаской.
— Теперь я начинаю привыкать, но первое время мой монашескій уборъ царапалъ мнѣ щеки, а платье оттягивало плечи.
Весною она начала кашлять; кашель ея былъ сухой, и кашляла она лишь изрѣдка.
Ея длинная, тонкая фигура стала еще болѣе хрупкой. Она попрежнему была весела и только жаловалась, что платье становилось все болѣе и болѣе тяжелымъ.
Читать дальше
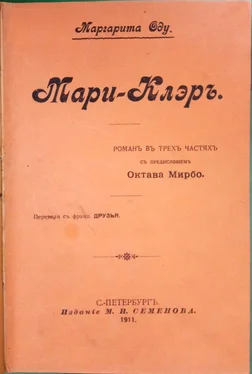
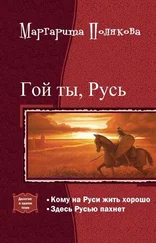


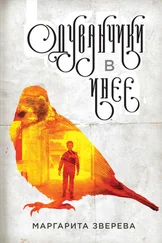



![Аннетт Мари - Три мага и «Маргарита» [litres]](/books/434723/annett-mari-tri-maga-i-margarita-litres-thumb.webp)