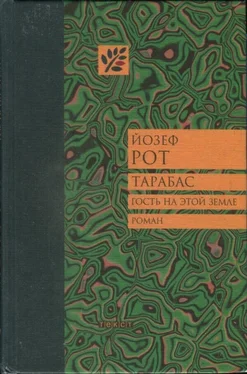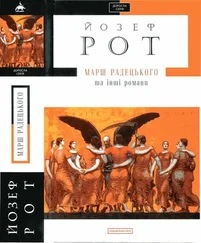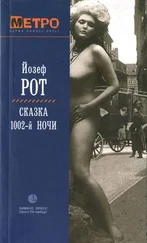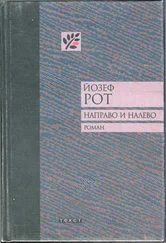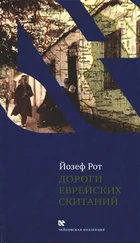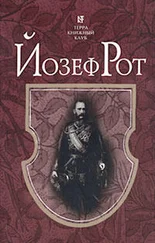— Сиди тихо! — сказал старик Андрей. — Не то придет хозяин. Я сейчас вернусь.
Он ушаркал прочь и через несколько минут вернулся с дымящимся глиняным горшком и деревянной ложкой.
— Ешь, ешь, милок, — сказал он. — Не бойся! Хозяин спит. Каждый день спит полчасика. И пока что время у тебя есть. А когда он проснется, то может выйти во двор. Раньше он был другим!
Тарабас принялся за еду. Закончив, выскреб деревянной ложкой дно и стенки глиняного горшка.
— Тише, тише, — сказал Андрей, — вдруг старик услышит… Я, — продолжал он, — за все здесь в ответе. Сорок с лишним лет живу в этом доме. Знавал и старуху, мать нынешнего хозяина, и его сына. Видел, как родились детишки. Видел, как померла старая хозяйка.
— А куда подевался сын? — спросил Тарабас.
— Сперва из-за одной провинности уехал в Америку. Потом ушел на войну. И все время его здесь ждали. А он пропал. Не так давно, минувшей осенью, почтальон принес большой желтый, запечатанный сургучом пакет. Дело было аккурат в полдень. Я тогда еще прислуживал за столом. Теперь прислуживает молодой Юрий, который отворил тебе. И вот хозяин берет пакет, отдает почтальону подписанную квитанцию и посылает меня в контору, за очками. Потом читает письмо. А после снимает очки и говорит жене: «Надежды больше нет. Так пишет сам генерал Лакубайт! Вот, читай!» И протягивает ей письмо. Она встает, бросает нож и вилку на стол, хотя я нахожусь в комнате, и кричит: «Надежды нет! Ты мне это говоришь! Смеешь говорить мне такое! Чудовище!» Так она кричит и выбегает вон из комнаты. А ведь ее всегда видели только с заплаканными глазами и никогда словечка от нее не слыхали. И вдруг она поднимает крик. Выбегает из комнаты. Падает на пороге. И целых шесть недель хворает. Когда она снова может встать с постели, заболевает хозяин, который ничего не говорил, но в душе наверняка огорчался. Несколько недель мы возили его в инвалидном кресле, а теперь он ходит с двумя тростями.
— А ты сам… что ты скажешь по этому поводу? — спросил Тарабас.
— Сам я… я не позволяю себе никаких разговоров. Такова воля Господа! Хозяин, говорят, все свое состояние отписал церкви. Нотариус приезжал сюда, и священник тоже. Что тут скажешь? Такое огромное состояние — церкви! Господа теперь всего-навсего квартиранты в собственном доме. Каждый месяц хозяин ездит в город. Юрий, который однажды его сопровождал, сказывает, что на почте он платит за жилье. Однако вожжи он пока что держит крепко. Когда сидит на козлах, выглядит как здоровый!
— Не знаешь, где тут уборная, папаша? — спросил Николай.
Старик указал в переднюю.
У Тарабаса возник безумный план, которому он не мог противостоять. И решил немедля привести его в исполнение. Быстро поднялся по лестнице наверх, шагая через четыре ступеньки. Распахнул дверь в свою комнату. Ставни закрыты, бурый прохладный сумрак царил в комнате. Здесь все осталось без перемен. Справа по-прежнему стоял шкаф, слева — кровать. Постельное белье сняли, на кровати лежал только полосатый красно-белый матрас. Не кровать, а скелет кровати, беспощадно ободранный скелет. Старое зеленое пальтецо, которое Тарабас носил мальчишкой, висело на гвозде у двери. Возле изножия кровати стояли шнурованные башмаки.
Тарабас взял их, засунул в карманы, один в левый, другой в правый. Закрыл дверь, прислушался и, как раньше, на руках соскользнул по перилам вниз. Открыл дверь в столовую. Отец спал в кресле у окна.
Тарабас остановился на пороге. Если кто увидит его, он скажет, что заплутал. Некоторое время стоял так и холодно наблюдал, как отец раздувает щеки, как поднимаются и опадают его усы. На подлокотниках кресла неподвижно лежали отцовы руки, исхудавшие руки, на тыльной стороне которых проступали толстые жилы, набухшие и одновременно застывшие могучие потоки под тонкой кожей. Когда-то Тарабас целовал эти руки. В ту пору они еще были загорелыми и мускулистыми, пахли табаком, конюшней, землей и ветром, были не просто руками, но и чем-то вроде регалий отцовско-королевской власти, совершенно особыми руками, какие могли быть только у отца, у его отца. Окно столовой было распахнуто. Снаружи веяло сладким майским дождем и ароматом поздних цветов каштана. Губы отца, невидимые под густыми усами, открывались и закрывались при каждом вздохе, издавали странные, забавные, гротескные звуки, которые словно глумились над достоинством сна и спящего и препятствовали благоговению, какого желал себе сын. Он мечтал испытать холодное почтение к отцу, даже страх, как бывало раньше. Но скорее лишь сочувствовал легкой смехотворности спящего, так бессильно и беспомощно отданного произволу своих слабых, жаждущих воздуха, посвистывающих органов, спящего, который выглядел отнюдь не могущественным королем, а скорее комической жертвой сна и болезни. И все же на миг сыну показалось, что он обязан поцеловать немощную руку отца. Н-да, на миг ему показалось, что он лишь затем сюда и пришел. Это чувство было настолько властным, что он совершенно забыл об опасности, которая грозила ему, если кто-нибудь случайно отворит дверь. Он тихонько приблизился к креслу, осторожно преклонил колени и выдохнул на тыльную сторону отцовской руки поцелуй. И тотчас отошел. Тремя длинными, беззвучными шагами добрался до двери. Бережно нажал на ручку. Вышел в переднюю. Потом во двор и снова сел подле Андрея.
Читать дальше