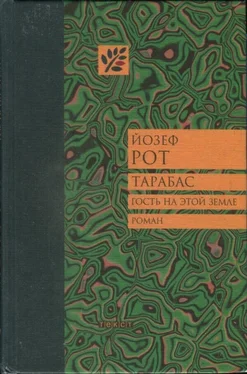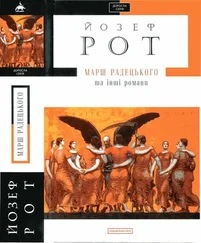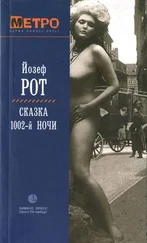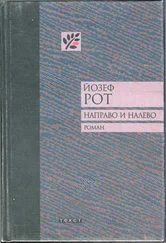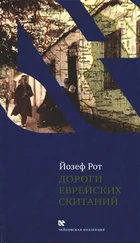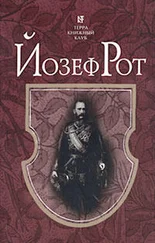Прежде чем выйти во двор, лошадник надел шубу, подбитую бобром, с красиво курчавистым, серебристым барашковым воротником. Лицо у него было румяное, сытое, на ногах сапоги на меху, руки в теплых карманах. Тарабас между тем мерз в своей шинели, дыханием согревал окоченевшие руки, пытался сдвинуть слишком маленькую фуражку то на правое, то на левое ухо, ведь мороз несчетными острыми зубами кусал оба. Лошадник смотрел на него недоверчиво. Тарабас отрастил всклокоченную белокурую бороду, которая начиналась под скулами и спускалась на воротник шинели. Другие бродяги, хотя бы молодые вроде него, старались бриться по крайней мере дважды в месяц. Наверняка он что-то скрывает, подумал лошадник. Какие черты убийцы или вора прячет под своей бородой? Вдруг заберет топор и пилу да уйдет прочь! Осторожный хозяин решил смотреть в оба, глаз не спускать с незнакомца, пока тот работает.
Только вот Тарабас, которому предстояло впервые в жизни пилить дрова, приступил к делу так неловко, что недоверие лошадника еще усилилось.
— Послушай! — сказал он, взявши Тарабаса за пуговицу шинели. — Сдается мне, ты еще никогда не работал!
Тарабас кивнул.
— Ты, поди, преступник? А? И воображаешь, что я оставлю тебя здесь одного? Чтоб ты все разведал, а ночью пришел грабить? Меня не обманешь, знаешь ли, и я не робкого десятка. Три года на фронте воевал. Восемь раз ходил в атаку. Знаешь, что это такое?
Тарабас опять кивнул.
Лошадник отобрал у него пилу и топор и сказал:
— Ступай отсюда! Не то в полицию отведу. И не показывайся больше мне на глаза!
— Господь с вами, сударь! — сказал Тарабас и медленно пошел со двора.
Лошадник провожал его взглядом. В бобровой шубе ему было тепло и вольготно. Мороз он чувствовал на румяном лице просто как приятное, божественное промышление, предназначенное, а может быть, и созданное лишь затем, чтобы домовладельцы и лошадники нагуляли аппетит. Вдобавок он был доволен, что острым своим глазом сразу разглядел, куда нацелился подозрительный малый, и крепкой рукой научил его почтению. Да и получил возможность упомянуть о восьми атаках. А еще вспомнил, что чужак никакой платы за работу не требовал. Поди, миской супа обошелся бы. Все эти соображения смягчили его. И он позвал Тарабаса обратно, благо тот еще и до ворот не дошел.
— Пожалуй, я все ж таки дам тебе попробовать, — сказал лошадник, — сердце у меня доброе. Что просишь в уплату?
— Что дадите, тем и буду доволен! — повторил Тарабас. И начал распиливать бревно, которое ранее так неловко уложил на козлы. Пилил старательно, на глазах у хозяина. При этом мышцы его налились изрядной силой, он чувствовал. Работал быстро, хотел поскорее избавиться от недоверчивых взглядов лошадника. А тому Тарабас все больше нравился. Он даже слегка испугался неоспоримой его силы. Да и любопытство разбирало при виде столь странного человека. Поэтому он сказал:
— Зайди-ка в дом, налью тебе рюмку водки, для сугреву!
Впервые за долгое время Тарабас снова выпил водки. Хорошей, крепкой водки, чистой, прозрачной, светло-зеленой и пряной благодаря всяким травкам, которые, точно в аквариуме, плавали на дне большущей пузатой бутылки. Добрые, надежные домашние травы, какие и старый папаша Тарабас подмешивал в свои водки. На миг водка огнем обожгла горло, но огонь тотчас угас, чтобы глубоко внутри обернуться большим, мягким теплом. Оно разлилось по телу, потом поднялось в голову. Тарабас стоял с рюмкой в одной руке и фуражкой в другой. В глазах его читалось столько признательности и удовлетворения, что хозяин, польщенный и одновременно охваченный сочувствием, налил ему еще рюмку. Тарабас осушил ее залпом. Мышцы у него расслабились, чувства пришли в смятение. Он хотел сесть, но не смел. Внезапно на него нахлынул голод, страшный голод, казалось, он руками ощущал неизмеримую пустоту желудка. Сердце сжалось. Тарабас широко открыл рот. Секунду, которая ему самому показалась вечностью, он тыкался руками в пустоту, потом схватился за спинку стула и с грохотом рухнул на пол, меж тем как перепуганный лошадник растерянно, без всякой надобности, распахнул дверь.
Из соседней комнаты прибежала жена лошадника. На Тарабаса вылили ведро ледяной воды. Он очнулся, медленно встал, подошел к печке, не говоря ни слова, обсушил шинель и фуражку, сказал «Бог вас благослови!» и покинул дом.
Впервые его, как удар молнии, поразила болезнь. И он почуял первое дуновение смерти.
В этот год бродяги с нетерпением ждали весны. Зима выдалась тяжкая. И наверно, долго еще не решится покинуть страну. Сотни тысяч тонких, спутанных — не расплетешь! — ледяных корешков пустила она повсюду. Обжилась глубоко под землей и высоко над нею. Внизу погибли посевы, наверху — кусты и трава. Даже соки деревьев в лесу и по обочинам дорог словно бы заледенели навеки. Очень медленно тает снег на полях и лугах, только в короткие полуденные часы. Но в темных низинах, в придорожных канавах, он лежит еще чистый и оцепенелый поверх ледяной корки. Середина марта, а на кровельных лотках еще висят сосульки и подтаивают разве что час в день на полуденном солнце. После полудня, когда тень возвращается, они вновь застывают недвижными, искристыми и гладкими копьями. Земля в лесах пока спит. И птиц в кронах деревьев не слышно. Невозмутимое, холодное кобальтовое небо стынет над головой. Вешние птицы чуждаются его мертвой ясности.
Читать дальше