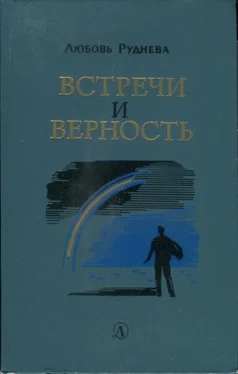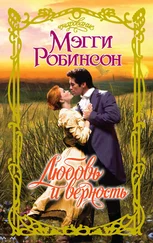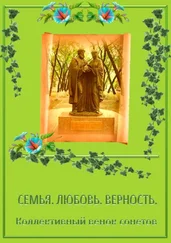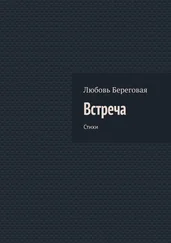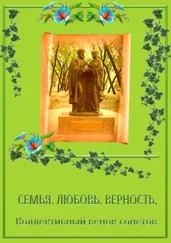Кто мог сказать в ту минуту Варшавскому, что и он падет здесь, потому что до последнего часа не оставит раненых Севастополя.
Хамадан попробовал пошутить:
— Вам-то придется писать мемуары — ведь севастопольский хирург Пирогов дал наглядный урок писателям.
И кто мог сказать Хамадану, что всего год отделяет его гибель от смертного часа Нины Ониловой. Когда будет уходить на Большую землю последний самолет, он отдаст свой корреспондентский талон раненому и скажет:
— Летите! Будьте здоровы!
А потом схватки на мысе Херсонес. Сопротивление…
Он прочитал вслух запись из дневника Нины:
— «…Не надо думать о смерти, тогда очень легко бороться. Надо понять, зачем ты жертвуешь своей жизнью. Если ради красоты подвига и славы — это очень плохо…»
И в это время оба они услышали быстрые и легкие шаги своего командующего. Встали и вышли ему навстречу.
Петров ходил совсем непохоже на всех окружающих его людей. Он снял свою каракулевую папаху, накинул халат, голова его подергивалась.
— Где она? Здравствуйте! — Он крепко пожал руку Хамадану и Борису Варшавскому. — Где она?
Темная рука командарма легла на подушку, он легко прикоснулся к ее щеке. Щека была холодная, слишком холодная, не девичья уже — щека уходящего воина: он свое сделал, ему пора.
И Петров это понял. Он встал. Склонился над Ниной, поцеловал:
— Спасибо тебе, дочка.
Сейчас она у него единственная. Еще есть сын — Юра, боевой парень, его адъютант. Но дочери у него нет, а эта маленькая нуждалась в том, чтобы ее проводил, напутствовал отец. Нуждалась всем своим существом, которое жить могло без родительской ласки, а в смертный час с благодарностью ее принимало. И вообще солдат нуждается в родителях, особенно такой.
Она неотрывно смотрела в глаза Петрова, и он снял пенсне. Без пенсне его большие голубые глаза беззащитны. У Нины дрогнули ресницы. Петров положил свою руку на ее большой лоб, и она прильнула к этой руке.
А он вспомнил всю ее недолгую жизнь. И храбрый вид, и краску смущения, когда он увидел ее на Мекензиевых, с закопченным лицом и перепачканными руками.
Он спросил тогда, как удалось ей скосить столько горных стрелков. Она тихо ответила, глядя в сторону:
— А я знаю?
И тут же поправилась и, спотыкаясь, объяснила:
— Ну, шли они, хотели смять нас, уверенно надвигались, я подпустила их поближе. Ну, еще поближе. И чуть-чуть еще. А второй номер подумал, что я струхнула, выругал, потом как закричит: «Что, не можешь? Слаба?» А они все-таки еще ближе подошли, и тогда я нажала на гашетку.
— На какое расстояние подпустили?
— А я знаю? Метров на пятьдесят, может, и меньше.
В его огромной памяти хранилось все, все, что сказал ему солдат. Он запоминал каждого, с кем хоть раз перемолвился словом, кого видел в деле, о ком докладывал командир. Запоминал и того командира и все обстоятельства, сопутствующие докладу.
К Нине наклонилась сестра и что-то зашептала. Она обрадовалась, увидя, что Нину покинуло странное выражение отчужденности.
Нина тихо и отчетливо сказала:
— Не говорите неправду.
И только голос Петрова ей был нужен — глухой, усталый голос…
— Спасибо, Нина, ото всех севастопольцев. От Севастополя, Анка.
Ей повезло, она дожила до прощания.
Умирала не в холодной реке, как Чапаев, не под чужим, ненавидящим взглядом.
Так вот он, конец, который тогда она не досмотрела в фильме, до него лежала дорога длиной во всю ее короткую жизнь.
В коридоре Петрова ожидали Хамадан и Варшавский. И как прошли все трое, опустив головы, видел из своей палаты Тарас Деев.
А сестра сказала ему:
— Иван Ефимович принял ее последний вздох. Нет ее…
— Есть! — выкрикнул Тарас.
Петров услышал крик Тараса и вернулся.
— А ты нам очень нужен, поправляйся скорей. На Мекензиевых трудно. Очень. Варшавский обещал быстро тебя вылечить. Ждут ребята на Мекензиевых…
Хрустнула ветка. Владимир Евгеньевич прислушался — откуда среди осколков металла на разбитой дороге ветка? Только что перестал бить вражеский миномет, и вдруг он услышал в темноте, как она хрустнула. Наклонился, различил: дубок с вывороченными корнями. Его занесло сюда откуда-то сверху, силой взрывной волны.
Взрывные волны бились об Инкерманский камень, вздыбленный воздух, спрессованный воздух глушил людей и деревья.
Вход в Инкерманские штольни, дорога из госпиталя в Инкерманский монастырь, где находился штаб Чапаевской дивизии, давно были пристреляны горными стрелками и артиллеристами. Охота за ранеными и врачами происходила на заре, и когда разгорался день, ввечеру и ночью. Но все-таки ночью можно было двигаться.
Читать дальше